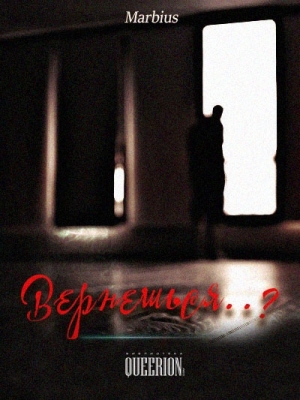Marbius
Вернешься..?
Аннотация
История со многими вопросами и бесконечными а если...?, а вдруг...?
Работа врачом общей практики в маленьком городке, размеренная жизнь и прогулки с собакой - хороший способ убежать от прошлого. По крайней мере так думает Тин. Только вот прошлое никак не хочет отпускать его.
Солнце неторопливо поднималось над горизонтом. Смотреть на него, сидя на веранде, было тем еще удовольствием. Каждый раз – как впервые. Тин положил ноги на стул, стоявший неподалеку, пошевелил ступнями, уже обутыми в кроссовки, и улыбнулся, как старому, пусть и шапочному, знакомому. Время было совсем раннее, Орех деловито бегал по заднему двору, забавно елозя огромными ушами по морде, снова пытался добраться до кротов, разворачивая очередной курган, который они накопали. Тин подумал было прикрикнуть на него, но ругать Ореха – бесполезное дело. Оболтусом он был, оболтусом и остался. Вроде и не три месяца собаке, а детского в нем на порядок больше, чем в щенке.
Кофе незаметно остывал в чашке. Воздух начинал прогреваться. Выходной обещал быть спокойным. Можно будет заглянуть к доктору Тирову на кофе, его жена обещала испечь самый настоящий гессенский пирог, рецептом которого с ней обменялась соседка. Можно будет съездить в соседний город, там должен быть неплохой концерт в церкви – после реставрации органа попечительский совет пригласил органиста аж из-под Штуттгарта. В воскресенье можно будет съездить на море – Орех будет доволен. Можно отключить телефон, не включать компьютер, взять с книжной полки книгу постарее и просидеть весь день на веранде, читая – или просто листая и вдыхая аромат старой бумаги и старых типографских красок, пья кофе и пропитываясь умиротворением провинциальной жизни.
Тин отставил чашку, встал и свистнул Ореха. Тот подпрыгнул на месте, гавкнул и понесся к нему. Тин не смог не засмеяться – пес был невероятно избалованным, откровенно шкодливым, эгоцентричным, и это было хорошо – приходилось постоянно заботиться о нем, подчас концентрируя на этом все свои мысли. Хозяйка дома, в который Тин въехал, согласилась скинуть целых три тысячи только лишь за то, чтобы и собака в нем осталась. Сама она переехала в дом престарелых под Гамбургом, поближе ко внучке, а за собакой не могла ухаживать уже добрых полгода до этого, старость не радость. Домик был не самым большим, внешне ухоженным, внутренне требовавшим постоянного присмотра, но по карману и не в центре города. До работы было пятнадцать минут неторопливой прогулки, до ближайшего супермаркета – в сторону от работы, да три минуты, а дальше еще один и еще один, и овощная лавка, а рядом «магазинчик тетушки Эммы». До центра города, если было желание – еще восемь минут. До железнодорожного вокзала – целых двадцать три минуты, если совсем никуда не спешить. И это было место, не без основания считавшееся одним из самых солнечных в Германии. И недаром. Солнца действительно хватало. Городской совет, чтобы ему хорошо жилось, организовал целое поле солнечных батарей на выезде, рядом с индустриальной зоной. Цены на электричество соответственно подскочили, ну как же – «зеленое электричество». Тин одно время играл с мыслью прилепить несколько ячеек на крышу, но как-то изящно были отменены дотации частным домовладельцам, и это оказалось бы сильно невыгодным. Лучше новая машина. Наверное. В перспективе. А пока можно и на дедовом мерседесе поездить.
Орех, увидевший, что Тин встал и начал спускаться с веранды, затормозил всеми четырьмя лапами и хвостом и рванулся к калитке. Тин неторопливо потянулся, решил, что получше растянется в начале знакомой тропинки, вытянул руки к солнцу, завел их назад и невесело усмехнулся. Орех – это хорошо. Городок, в котором с ним здороваются все без исключения – тоже, старший коллега, от которого многому, очень многому можно научиться – отлично. У него замечательные перспективы здесь: ни тебе хронической суеты, так свойственной крупным городам, ни тебе агрессивности и нарциссизма различной степени тяжести у всех поголовно, буде то коллеги-врачи или пациенты, ни тебе анонимности; отличный доход, небольшие расходы, замечательная репутация. Возможно, при желании, если сильно постараться, и с личной жизнью можно попробовать что-то наладить. Тот же Эрик был не против, неоднократно предлагал попытаться еще раз, возможно даже съехаться. В шутку предлагал, легко, как бы и не настаивая, но явно искренне бы обрадовался, если бы получилось. Пусть и не было в их отношениях ни капли страсти, но можно, можно было бы попробовать. И Тин взялся рукой за ручку в калитке, замер и вздохнул. Буквально вчера он удалил свой аккаунт на форуме знакомств. Люди, которым он доверился чуть больше, чем необходимо для простого онлайн-флирта, уже давно общались с ним вне форума. Остальные попытки познакомиться он пресекал вежливо, но непреклонно – на кой бы ляд они сдались?
Орех яростно зацарапал передними лапами калитку, не желая принимать нежелание той открываться, еще и облаял, дурной кобель. Достался Тину на радость от старой хозяйки. Та долго расписывала, какой у него замечательный характер и просто фонтаном бьющая чуткость, а затем совсем маленьким шрифтом внизу контракта приписочка: но дурак страшный. После пятнадцати минут знакомства у Тина пострадали руки, брюки, туфли; пиджак не пострадал, но не потому, что Орех не старался, а потому что не достал. Мог бы – еще и прическу испортил и в лицо лизнул. В общем, собака дурнейшая, добродушнейшая, энтузиазм явно троим предназначался, ему одному остался. Так что Тин с радостью оставил его себе – все лучше, чем одному, а уж сколько с ним придется заниматься, просто замечательно, зато не до сплинов будет. И мотался теперь два раза в месяц в собачью школу. А еще учитывая тот прискорбный факт, что у этого идиота в роду явно были гончие, его нужно было как следует выгуливать. Так что на фитнессе в уютном зале, да под крышей, да в разумной удаленности от фитнес-бара был поставлен большой и жирный крест, а пришлось приобретать беговые кроссовки и осваивать поля-луга-перелески в окрестностях, надеясь и так укротить безудержный энтузиазм этого балбеса. Орех, отзывавшийся не только на свое паспортное имя, но и на «придурок», «обормот», «идиот», «чтобтысдох», «лапочка», «какмнестобойповезло» с одинаковым энтузиазмом, идейность Тина одобрил – ему в принципе было безразлично, чем с ним занимаются, главное – чтобы занимались. И Тин открыл калитку, и Орех рванул вперед.
Времени было чуть больше, чем очень рано. Народ либо уже отгулял свое с собаками, либо только собирался. Тин накрутил поводок на руку, свистнул Ореха, чтобы не сильно увлекался, нагнулся к коленям, потянулся, следя за ним и улыбаясь. Орех с самым деловым видом принялся обнюхивать окрестности, проверяя письмена других собак, как будто могло появиться что-то новое. Ну теперь можно и на пробежку.
Тин устроился на работу в этот городок чуть больше года назад. По большому счету, это была не совсем его специальность, но доктор Тиров, с «тэ-ха» и долгим «и», как он привычно представлялся – Thierow, закрыл на это глаза. Ему, врачу общей практики, одному на слишком много человек, было все равно, главное чтобы было кому практику передать, когда он уйдет на пенсию, а что Тин раз в неделю еще и в соседний город в крупную университетскую больницу ездил, потому что и там взял себе самую малость часов с прицелом на защиту еще и докторской чуть попозже, – ну и что, парень молодой, пусть практики набирается, и им пригодится. Реаниматология, которой Тин бредил еще перед выпускными классами, все-таки стала его специальностью, на радость или на беду. Но такие философские мысли всплывали в его голове, даже не столько в голове, а где-то ниже, там, где у людей сердце, а оттуда уже подплывали к горлу, перехватывали его петлей и сдавливали осторожно и осмотрительно, но от этого не менее угрожающе. Тин снисходительно поддавался этому глухому отчаянию, но совсем чуть-чуть, самую малость, оправдывая это своим азиатским наследием, которое упрямо пряталось в его хромосомах, чтобы выглянуть в самый неподходящий момент и снова спрятаться до поры до времени, играл с мыслями о бренности всего и вся, о фатализме и невозможности остановить медленно и неотвратимо текущую реку судьбы, а затем снова смотрел на мир прагматичным европейским взглядом. И снова – практика здесь, часы там, операции еще где-то, бесконечные пациенты, которых он очень скоро научился узнавать и укрощать, Орех, бабушка с дедушкой, иногда Эрик, и никаких мыслей о прошлом. Последнее было почти выполнимо. К сожалению, всего лишь почти.
Кем был отец Тина, так и осталось тайной, покрытой мраком. Даже его мать, пока была жива, не смогла сказать ничего вразумительного. Тин был зачат в университетском кампусе почти тридцать лет назад, и судя по некоторым предположениям, его маменька ни в чем себе не отказывала – ни в выпивке, ни в сексе, ни в наркотиках. Когда она погибла в автокатастрофе вместе со своим парнем – не с тем, за которого так и не вышла замуж из-за Тина, а с другим (или с третьим, четвертым, да не суть), в крови были установлены следы алкоголя и наркотиков, в машине обнаружены те же наркотики. На отцовство потенциально могли претендовать несколько, и хорошо если не несколько десятков, человек, и по своей странной прихоти судьба решила, что отцом быть все-таки корейцу. По крайней мере, именно на корейский тип больше всего походило лицо Тина, как он думал, задерживаясь время от времени у зеркала и изучая себя. Оно было узким, с отчетливыми скулами, с миндалевидными темно-карими глазами, бархатными, мерцавшими и почти никогда не блестевшими, ничего не отражавшими, кроме собеседника. С тщательно прочерченными бровями. С небольшим ртом с твердой нижней губой и неожиданно бесхарактерной и мягкой верхней – она была по-девичьи вздернута, чувственно пухла, капризно выгнута, казалась почти плоской в отличие от рельефной нижней, достойна всех и всяческих поцелуев и придавала лицу легкий, почти неуловимый капризный флер. Сам Тин не был капризным, вообще не был, но от него ждали именно этого, именно это ценили, именно это пытались вытравить, именно это пытались поощрить – был и такой ценитель. Больше рта Тина он вожделел, пожалуй, только его тела, разом вырвавшись из увлечения спортивными юнцами, резво отрубил последнего и бросил все свои эстетские знания на осаду и покорение Тина. Странное это было время, отдававшееся глухой тоской все в том же месте чуть выше грудины, глухо и упрямо бившимся сердцем и рефлекторно сжимавшимися челюстями. Дедушка с бабушкой недаром назвали его «постоянным», надеясь, что имя обережет его от ошибок маменьки, которую они, почти тридцатилетние на момент ее рождения и бывшие в браке более пяти лет, назвали легкомысленным «Заския». В сочетании с почти ничего не значившим «фон» его имя сходило за аристократическое – дедушка рассказывал о своих предках, которые были фрайхеррами, вроде одно время даже зажиточными, и Тин-Константин фон Лиссов листал старые альбомы, рассматривал своими цепкими раскосыми глазами фотографии предков, ища в их лицах свои черты, и радовался, находя. Бабушка была из простых, дочерью доктора, внучкой фельдшера, домохозяйкой, неуловимо-предприимчивой, руководившей домом железной рукой и не позволявшей себе обвинять ни себя, ни Тина в смерти дочери. Она радовалась почти как ребенок, когда Тин поделился с ней, что хотел бы быть доктором, поддерживала его рассказами о своем отце, стойко переживала с ним период поступления в университет и тихо скучала, когда он уехал в западные земли, чтобы учиться на врача там. Даже невнятная история своего появления на свет переживалась Тином на этом фоне не так остро.
Солнце лениво подбиралось все выше к зениту; Тин выбирал тропинки поизвилистей да подальше от цивилизации, потому что хотелось дать Ореху выбегаться как следует и не приковывать к поводку раньше времени. Он пробегал мимо фермерского поля, на котором лениво жевали жвачку коровы, мимо загона с пони в количестве трех штук, которые тут же потрусили к загону, приветствуя и Тина и Ореха, который и в загон запрыгнул бы, не прикрикни на него хозяин – прижался к земле, обиженно затявкал и демонстративно отвернулся. Толстенькие, крепконогие пони радостно подставили морды под руку Тина, довольно пожмурили влажные глаза, тихо поржали и лениво побрели к своей кормушке. Тин с Орехом побежали дальше к озеру, где могли встретить еще пару знакомых.
До лета, а точней до приемлемых для ничегонеделания на берегу озера температур оставалась еще пара месяцев, но само озеро уже приветливо поблескивало на солнце мерной рябью. Вода была холодной, что Ореху было совершенно непринципиально, а Тин обещал себе, что вот на следующих выходных, вот на следующих он обязательно решится искупаться и устроит настоящий пикник – он, Орех и – стоит ли еще и Эрика пригласить? Орех радостно залаял, бросился в озеро, Тин привычно воздел глаза к небу, обреченно выдыхая: «Этот Орех...». Но можно было пока немного растянуть мышцы и просто помедитировать на воду.
Обратный путь пролегал через поля, мимо бывших казарм, в которых нонче размещалась высшая школа управления, да на Зеленую улицу, по которой можно неспешно дойти до своего квартала. Орех отряхнулся, предусмотрительно отойдя подальше от хозяина, обежал его пару раз, погавкал и направился по знакомой дорожке вверх по склону. Слева очень удобно располагалось поле, изрытое кротами, и Тин решил выпустить джинна на волю. Орех радостно залаял и бросился на поле, Тин опустился на скамейку и вытянул ноги. Солнце с любопытством смотрело на землю, и Тину казалось, что оно улыбается предвкушающе и самую малость злорадно.
В Школе управления не только готовили служащих различной степени административности, но еще и полицейских. Эрик был одним из них, пока – впереди оставался последний семестр. Потом он скорее всего уедет в город покрупнее, давно уже хотел. Предлагал и Тину попытать счастья в крупном городе, мол с его головой, с его резюме, с его послужным списком его не то что в Гамбург-Эппенхайм, в Чарите возьмут. Тин посмеивался, не желая по двадцатому разу объяснять, что хотел именно в маленький город, потому что именно в нем маленькому человеку со своими маленькими проблемами легче всего затеряться. А в большом городе он уже пожил, поучился, поработал, повлюблялся. Спасибо, хватит.
Тин положил руки на спинку скамейки, следя за Орехом. Мокрая от пота майка липла к телу, но постепенно высыхала, переставая неприятно холодить кожу. Ветерок гулял и по голым ногам. Над головой задумчиво шелестели листья. Орех сосредоточенно изучал кротовий курган, сдвинув на морду уши-лопухи. А еще у Тина была совсем маленькая слабость, совсем маленькая, по причине потакания которой он и сидел на скамейке в тени деревьев, переводя взгляд с Ореха на дорожку, ведшую к школе управления – или от нее.
Топот добрых семи пар ног, обутых в кроссовки, упакованных в форменные спортивные лосины серьезной синей расцветки с легкомысленной бело-голубой отделкой, был изрядно приглушен покрытием на дорожке. А курсантов в школу набирали по разным показателям, физическим в том числе, к которым предъявлялись строгие требования. И ноги у них как правило были очень хороши, да и вообще тела, спасибо ежедневным занятиям спортом, и Тин перекрестил свои, похлопал ладонями по спинке скамейки и поднял глаза туда, откуда они и должны были появиться с целью совершения своей ежедневной пробежки. Сколько они там бегали – семь километров утром и столько же вечером?
Курсанты бежали в ногу, еще и переговариваться и смеяться умудрялись при этом. Ничто не берет молодость, ни нагрузки, ни предстоящие экзамены, ни уже сданные. Орех облаял непонятные объекты, бежавшие по дорожке, но издалека и совсем нехотя, скорее исполняя некий обряд, и снова вернулся к охоте на кротов. Одна группа. И еще одна, на сей раз смешанная – двое парней и четыре девушки. Еще двое. Еще одна группа, все в тех же лосинах, в кроссовках, в майках тех же форменных цветов, и Эрик среди них. Почти не выделявшийся по росту, по телосложению – отбирали-то по четко установленным параметрам, со светло-русыми волосами, почти темно-блондинистыми, с широким лицом, с упрямым подбородком, подходивший под типаж, в существовании которого годам этак к двадцати пяти признался себе Тин; экстраверт, деятельный, зараза. Неугомонный, не любивший сидеть на одном месте, постоянно тянувший его куда-то. Воевавший с Орехом, решавший, что хочет непременно научиться готовить в воке, пытавшийся разнообразить гриль-меню, с удовольствием вытягивавший Тина на посиделки в пивбаре и не стыдясь обнимавший его на глазах у всех. Надежный, из тех, которые способны посвятить всю жизнь одному человеку, и оставлявший Тина почти совсем равнодушным. И спасибо неизвестным богам за то, что они разумно сошлись, разумно насладились отпущенным им ими самими временем и не менее разумно расстались. Эрик намекал, что можно было бы все-таки еще раз попробовать, но Тин был непреклонен, вежливо, почти ласково стоя на своем: не стоит реанимировать прошлое.
Тину нравилось смотреть на них. Они были все как на подбор, хороши, просто выдергивай любого и отсылай на подиум, и профессиональные модели могут застыть в зависти, глядя на них. Тину нравилось следить за их ногами, наслаждаясь и игрой мышц на икрах, и ритмично напрягавшимися бедрами, скользить по ягодицам, оценивать талии, забираться выше и самую малость попускать мыслям окутываться эротической дымкой; едва-едва уловимой, совсем неприметной, совершенно абстрактной, как правило не обретающей ни лица, ни личности – или на постоянную Тинову голову обретавшую слишком определенную личность и слишком определенное лицо. И тоже широкое, с упрямым лбом и русыми волосами над ним, с упрямым подбородком, с живыми глазами, с улыбкой, которой он ослеплял всех – и союзников и оппонентов, принадлежащее крупной голове, прикрепленной к тренированному телу, временами становившееся жестким, временами смягчавшееся, вроде забытое, но всегда бывшее готовым к тому, чтобы при малейшем напоминании выскользнуть из полу-, недо-забытья, улыбнуться широко и сказать: «Ах, Тин...».
Эрик вскинул руку и помахал Тину. Орех подпрыгнул, забыл о кротах и бросился к нему. Товарищи Эрика засмеялись, свистнули Тину, остановились, чтобы погладить Ореха и побежали дальше. Эрик поколебался, но Тин не пошевелился ни встать, ни дать ему знак подойти. Просто помахал приветственно и остался сидеть. И Эрик побежал догонять товарищей. Орех рванул составлять ему компанию, но одумался и вернулся к Тину, после двух резких окриков позволил пристегнуть себя к поводку и мирно потрусил рядом с направлявшимся домой Тином. Завтра надо будет выбрать другой маршрут, лениво подумал Тин, не пытаясь еще и уговорить себя на это, отлично зная, что завтра все также побежит мимо фермы, мимо пони, мимо озера, чтобы выйти на все ту же дорожку, на которой почти год назад и познакомился с Эриком. Не для того, чтобы еще раз увидеть его, а просто потому, что был привычен к этому маршруту, который начинался в одиночестве и заканчивался там же.
Несмотря на маменькину необузданность, как-то очень удачно совпавшую с очередной волной сексуального освобождения, Тин оставался примерным мальчиком, почти ботаником, находя больше удовольствия в том, чтобы помогать бабушке в саду, чем в вечеринках, которые регулярно устраивали его одноклассники. Просто удивительно, как гены комбинируются, как они отражают характер. Вроде маменька росла в похожей обстановке, в семье, состоявшей из все тех же любящих и заботливых родителей, а гляди-ка, далекое от здравого увлечение всякими коммунами, нью-эйджем и прочими дурманами мимо нее не прошло, несмотря на вполне приличное воспитание. Или это в Тине доминировали восточные, тяготевшие к покорности гены, доставшиеся от папеньки, которого он никогда не узнает и может только предполагать, что тот был все-таки корейцем? Ему было куда интересней со взрослыми, он никогда не причинял никаких хлопот ни бабушке, ни ее подругам, ни коллегам дедушки, время от времени собиравшихся у них на гриль. Тин всегда с подозрением относился к радикальным желаниям сверстников попробовать как можно больше, испытать как можно более яркие впечатления; и бабушкины пироги или дедушкины рассказы о своей семье доставляли ему куда больше удовольствия, чем дискотеки, пиво и огни большого города, которые считались крутыми у его одноклассников. Все классные поездки, которые не могли не сопровождаться выпивкой и нарушением дисциплины, Тин отсиживал в своем номере, старательно избегая сомнительной ценности совместных посиделок, плавно, но неукротимо перетекавших в совместные пьянки. Все поездки со своей спортивной командой он проводил примерно так же смирно – не хотелось. И еще меньше хотелось оказаться сыном своей матери, о которой иначе как о достойном представителе дикой молодежи, не говорили даже через пятнадцать лет после ее смерти. И все-таки Тин был не менее склонен к зависимости, как и его маменька; она стремилась к удовольствиям любой ценой и за чужой счет, но при этом все-таки рассчитывала стать добропорядочной потом, как-нибудь потом. Может, и стала бы, и срывалась бы в свои разгулы в каких-нибудь отпусках где-нибудь в Чехии-Болгарии-Турции, или где там выпивка подешевле, не чаще. А Тин внезапно обрел свою зависимость и так и не смог от нее избавиться, хотя и знал, что ничего хорошего из нее не выйдет, никогда не выйдет – не тем был человеком объект его страсти, чтобы внезапно воспылать желанием зажить пристойно, степенно, добропорядочно. В постоянном союзе, черт побери.
Тин шел по тротуару, и рядом величественно вышагивал Орех. Балбес, лениво усмехнулся Тин, покосившись вниз. Кроме сеттера, его предки могли побывать в альянсе с терьерами и какими-нибудь овчарками. Наверное. Шерсти на нем было прилично, Тин по паре сотен грамм с него настригал. Бабушка радовалась – ее последним увлечением было прядение, и она уверяла, что нет для этого лучше материала, чем Орехова мягкая шерсть. Он кивнул головой почтенной паре, которая приходила на прием к доктору Тирову не по причине жалоб, хотя и их хватало, а больше со светскими целями, попутно регулярно приглашая в гости и Тина. Степенности Ореха хватило ненадолго – до первого кобелька, которого непременно нужно было поставить на место, и только злобный рявк Тина удержал его от стремительного рывка, и долго потом он оглядывался, скаля зубы в угрожающей улыбке.
Купив булочек на соседней с домом улице, Тин перекинулся парой фраз с продавщицей, поинтересовался здоровьем дочки, посетовал на погоду и пошел домой. Орех делал вид, что устал, что очень устал, шел все медленнее, оглядывался, даже поскуливать начинал; Тин посмеивался и тянул его за собой. Было забавно видеть все больше людей, ковырявшихся в клумбах с деловыми лицами и не менее деловыми позами, моющих машины либо уже составляющих в них корзинки-чемоданы, а самому не собираться делать ничего из этого. Тин взмахнул рукой в знак приветствия и открыл дверь. Орех с деловым видом пошел к своему матрасу, облегченно вздохнул и устало опустился на него. На вопрошающий взгляд Тина он всего лишь утомленно махнул хвостом: мол, да-да, я вижу, а ты иди и не мешай мне отдыхать от мирской суеты.
Ехидной змейкой в голову проскользнула мысль, причем в самый интимный момент, хотя место ей соответствовало. Тин стоял под душем, закинув голову назад, закрыв глаза, задержав дыхание, и внезапно эта мысль: ну и зачем ты аккаунт удалил? Снова ведь придется регистрироваться. К полному и однозначному одиночеству Тин все-таки был не готов, надеясь, что еще повезет. А вдруг бы встретил человека, с которым можно было попытаться еще раз? А вдруг бы смог довериться ему в полной мере, чтобы получилось не только время от времени заниматься сексом, но еще и отношения попытаться построить? Тин только головой тряхнул: до этого не получилось, после которой по счету попытки, а он все надеется, идиот. И с такими радостными мыслями он потянулся за мылом.
Тин как нечто само собой разумеющееся воспринимал семью, в которой вырос: бабушка с дедом, которые все время проводили вместе, все делали вместе и обсуждали все планы и намерения. После пятидесяти с лишком лет брака – немалое достижение. Тин с недоумением и даже опаской воспринимал новость о том, что еще у одного одноклассника родители разводятся, не понимая: как брак может быть разрушен? Он примерно так представлял свою личную жизнь, с одним но: никогда ему не виделись рядом с собой женщины. В них не находилось ничего такого, что могло бы его возбудить. Ребята вокруг обсуждали сиськи девчонок из параллели, а Тим настороженно помалкивал, боясь признаться, что руки Антона из 12 класса, и особенно его предплечья, возбуждали его куда больше. Потом наступили адские времена – Тин занимался гандболом и фаустболом, даже на соревнования ездил, и эти поездки требовали от него немалой выдержки, потому что пребывать в атмосфере, наполненной потом, мускусом, напряженными мышцами и юношескими-мужскими телами разной степени обнаженности, и при этом не оставаться в ней безразличным, получалось тем хуже, чем старше он становился. Еще и поэтому приходилось держаться подальше, потому что разговоры в команде велись разные, и гомофобские тоже. Хотя и видеть доводилось немалое; впервые увидев, как товарищ по его команде грубо сношает члена команды-противника, а тот выгибается в эмоции, которую можно было бы назвать наслаждением, если бы она не была куда больше похожа на примитивную, почти животную, Тин не смог уйти, тихо ненавидя себя и упиваясь сценой. Второй раз, которому он оказался свидетелем, был почти болезненным в своем откровении о самом Тине. Потом были шлепки по ягодицам, воспринимавшиеся по-разному, но никогда нейтрально. Потом был Антон из 12 класса, а затем перешедший в тринадцатый, учившийся очень хорошо и относившийся к Тину почти благоговейно; дружба с ним не вызывала у деда с бабушкой никаких возражений или сомнений, и Тин почти безнаказанно проводил с Антоном много времени к своему виноватому удовольствию; затем к деду приехал его троюродный племянник с другом, и Тин пристально следил за ними, изучая, да что там – принимая, убеждаясь, что он тоже такой; дедушка с бабушкой никак не высказали своего неодобрения, так, покачали головой, поцокали языками из-за пирсинга партнера, но ничего помимо этого.
Тин снова сидел на веранде. Солнце поднималось все выше. На столе лежала книга, которую Тин пытался читать. Рядом с локтем снова стыл кофе. Орех величественно вышел на веранду, потянулся, смачно зевнул и сгрузил себя Тину на ноги. Тому только и оставалось, что усмехнуться и вытянуть из-под него свои ноги. Доктор Тиров позвонил, полюбопытствовал, не собирается ли Константин заглянуть к ним на настоящий гессенский пирог, который все-таки получился у его Петры, вопреки ожиданиям и предыдущему опыту, и Тин согласился. Позвонила и бабушка, приглашая его на скромный семейный уик-энд в конце марта, и чтобы обязательно с оболтусом, то есть Орехом. Тин почти решил ехать на органный концерт и прикидывал, одному туда отправиться, пригласить кого-то или понадеяться, что встретит там знакомых. Еще и ремонт в спальне не мешало бы начать. Жизнь все-таки продолжалась, хотел он этого или нет. И только солнце ухмылялось ему проказливо и почему-то многообещающе.
========== Часть 2 ==========
Солнце светило, но воздух еще не прогрелся, хотя прозрачность его отдавалась перезвоном хрустальных колокольчиков где-то в грудине. Читать не хотелось совсем, а хотелось оглядываться, улыбаться и вдыхать почти теплый, по-весеннему свежий воздух. Орех лениво спрыгнул с веранды, забыв об изяществе, подошел к лужайке и присмотрелся к ближайшему кротовьему кургану. Тин подтянул к себе ногой стул, сплетенный из ивовых прутьев, и положил на него обе ноги. Бегать было тепло, сидеть оказалось зябко. Но и заходить в дом не хотелось. Тин механически перевернул еще пару страниц, сложил книгу и бросил ее на стол, откинул голову на спинку стула и уставился на навес. Не хотелось идти к доктору Тирову, и совсем не потому, что ему не было неприятно его и его супруги общество, напротив. Скорее слишком небеспочвенными были опасения, что он или Петра невзначай затронут ту струну в нем, которая давно провисла, жалобно дребезжала, когда ее случайно касались воспоминания, случайные ассоциации, все, что угодно, и которую не хватало решимости настроить – или вообще снять с грифа, чтобы не терзала своим ассонансом вполне слаженный канон, в который превратилась его жизнь. Орех неторопливо обходил лужайку, Тин следил за ним, благодарный за отвлечение; помнится, в самом начале их сосуществования приходилось метаться между жалостью, когда хитромудрый Орех тоскливо поскуливал, лежа на своем месте, не забывая при этом следить за Тином – ведется ли на спектакль, спешит ли пожалеть несчастного, позабытого-позаброшенного?, и обреченными смешками, когда он, забывая, что ему положено пребывать в трауре, радовался жизни и застревал в кустах, вис на заборах и проваливался в ямы. Учитывая общую бестолковость пса, заниматься с ним приходилось изрядно, и все реже становились те моменты, за которые Тин ненавидел свою постоянную – под стать имени – натуру, когда он по-женски забывался и снова тонул в прошлом, в полузабвении гладя Ореха, прикрывая глаза и задерживая дыхание. Дело было прошлое, и все равно было больно. Орех, очевидно, пребывал в уверенности, что что это он заразил нового хозяина тоской, и виновато лизал ему руки или морду. Тин смеялся, уворачивался от шершавого языка, и прошлое снова застывало где-то на периферии, не навязываясь и не отмирая.
Тин был почти уверен, что бабушка знала куда больше, чем показывала. Она была тем человеком, который одергивал деда, стремившегося узнать, с чем связано почти перманентное одиночество Тина, переводила разговор на новые экскурсионные туры, экономический кризис, выборы, цены на молоко, когда дед оказывался слишком настойчивым. Тин подозревал, что и госпожа Тиров была куда более чуткой, чем ее замечательный, но такой толстокожий муж. Поэтому и собирался к ним в гости неохотно, тем более, что повод опасаться у него все-таки был. Оно и поговорить хотелось о своей бестолковости, и говорить было нелегко, потому что расстроенная струна, которой приходилось касаться, больно била по пальцам, а могла и до крови рассечь кожу на них.
Натянув джемпер, Тин потянулся за шарфом, попутно следя за Орехом. Тот подпрыгнул на передних лапах и сосредоточенно сдвинул уши, застучав хвостом по полу, наконец заулыбался, удовлетворенно гавкнул, когда увидел, что Тин тянется за поводком, и подбежал к нему. Прогулки, а тем более велосипедные, а тем более к людям, которые его любили – а его не могли не любить – Орех любил. Он самодовольно гавкнул Тину, выкатывавшему велосипед, добежал до тротуара, вернулся обратно, с серьезным видом стал рядом и стал его поджидать. Он просто излучал самодовольство, рыся рядом с велосипедом, оглядывая улицы и время от времени посматривая на Тина – мол, долго еще? Когда меня будут поощрять за рвение?
Послеобеденный кофе у доктора Тирова почти традиционно превращался в дискуссионный клуб. Госпожа Тиров, которая настаивала, чтобы Тин, бывший чуть ли не на тридцать пять лет младше ее, все-таки звал ее по имени, с азартом делилась новыми хитростями по уходу за собаками, которые почерпнула из солидных программ на солидных общественных каналах. Доктор Тиров, вертевший в руках трубку, посмеивался над ней, говоря, что на общественном телевидении разве можно почерпнуть что-то актуальное? Петра горячилась, Тин с серьезным видом предполагал, что с его Орехом не справится даже самый ярый интендант общественно-правового канала, доктор Тиров механически подносил пустую трубку к губам, жевал мундштук и рассказывал о щенке, которого завела его внучка. Петра тут же делилась последними проделками соседского пса, рассказами о котором ее соседка предваряла сообщение рецепта того самого пирога. Тин соглашался на еще кусочек, делал хозяйке еще один комплимент, и снова доктор Тиров посмеивался, говоря, что за один сегодняшний пирог Петра сорвала больше комплиментов, чем за все свои кулинарные шедевры, которые она пыталась сотворить в предыдущие десять лет. Петра возмущалась, доктор Тиров посмеивался, Тин веселился, не очень тщательно скрывая улыбку. Его бабушка с дедушкой время от времени развлекались подобным образом, предъявляя друг другу самые невероятные, самые абсурдные претензии. Как только не надоедало, спрашивается?
Петра сослалась на крайнюю необходимость осмотреть цветы на клумбах и оставила Тина и доктора Тирова наедине. Он устроился поудобнее и начал сосредоточенно набивать табак в трубку.
– Семинар обещает быть интересным, да, Константин? – неспешно произнес он, поворачивая лицо, но не спеша поднимать на Тина глаза, полностью увлеченный процессом.
– Бесспорно, – охотно согласился Тин, изучая кофе в чашке.
– Хотел бы я тоже побывать на нем. – Доктор Тиров поднес трубку ко рту, втянул воздух и помедлил немного, глядя на него. Тин встретил его взгляд кротким своим. – Я всегда удивляюсь, что привлекает тебя в маленьком городе. У тебя специальность, которая хороша для крупных городов и очень больших медицинских центров, а ты вместо этого лечишь «тетушку Эмилию» от гипертонии.
– Вы тоже могли сделать карьеру в Грайфсвальде, не так ли? Кстати, спасибо за рекомендации. Профессор Готлиц очень достойный человек.
Доктор Тиров продолжил набивать трубку.
– Пожалуйста. Думаю, он тоже не раз скажет мне спасибо. – Он помедлил немного, пожевал губы. – Тин, пойми меня правильно, я очень рад, что ты обосновался здесь. Более того, я очень рад, что ты пришел в мою практику. Петра уже который месяц строит планы о том, что мы будем делать на пенсии; а без тебя я бы и дальше не решался на нее. Будет жаль, если ты все-таки оставишь практику и решишь продолжить карьеру где-нибудь в Грайфсвальде.
– Только если в качестве хобби, доктор Тиров, – с готовностью отозвался Тин. Слишком очевидно, пауза была недостаточно короткой и за убедительную сошла едва бы. Тин сжал челюсти, поизучал чашку. После пристойной паузы он сказал, позволяя себе съехать в более глубокий, более доверительный регистр: – Вы отлично знаете, что я не захотел продолжать карьеру в Любеке, хотя отработал в тамошней больнице больше года. Я недостаточно амбициозен для крупных клиник.
– Удивительно, не так ли? В твоих рекомендательных письмах стоит несколько другое. – Доктор Тиров потянулся за спичками. – Твоей целеустремленности писали оды.
– Назовите это кризисом тридцати лет, – игриво улыбнулся Тин, – и влекомым им пересмотром ценностей.
– Ах, оставь это Петре, – обреченно отозвался Тиров. – Она любит такие штуки. У себя искала комплекс Электры, начитавшись этой «Бригитты». Хорошо на ту пору хоспис начали организовывать, так она и забыла об этих новомодных психотерапиях.
– Отчего же новомодных? Им по самым скромным подсчетам почти два века. – Тин потянулся, чтобы налить себе еще кофе. Доктор Тиров прикрыл глаза и затянулся.
– Та, та, та, – немного раздраженно отозвался он. – Ну хотя бы ты не заводи эту волынку. Я помню, побывал на семинаре, который организовывал совет больничных касс. И там этой самой психологичности, человеческому отношению, тактичности и прочим ересям посвятили добрых восемьдесят процентов времени. И в остальные двадцать попытались впихнуть достижения в ранней диагностике за пять лет. И в чем прок, я спрашиваю? За что я платил деньги? С тех пор, кстати, Константин, – доктор Тиров наставил на него трубку, – я езжу исключительно на профильные семинары, в которых крайне мал шанс нарваться на очередного доморощенного Юнга.
– Вы зря так пренебрежительно относитесь к психологии, доктор Тиров, – начал Тин, но его перебили.
– Герд, Константин. И на «ты», сколько раз повторять?
Тин не сдержал улыбки. Когда доктор Тиров пытался сердиться, двигая широкими лохматыми бровями, Тину хотелось веселиться. Доктор Тиров, очевидно, понимал это и артистично хмурился, поджимал толстые губы, а в глазах за толстыми стеклами очков поблескивали веселые огоньки.
– Я попытаюсь, – Тин напустил на себя серьезный вид и выпрямил спину. Доктор Тиров закатил глаза и откинулся на спинку кресла.
Затянувшись, выдохнув дым, задумчиво посозерцав его, доктор Тиров произнес:
– Хочу верить, что не лезу не в свое дело, Константин. – Вздохнув, помолчав, поизучав трубку, он неторопливо, с обстоятельными паузами продолжил: – Но я очень привязан к практике, и не хотелось бы, чтобы она начала гулять по рукам, знаешь ли. Ситуацию с семейными врачами в маленьких городах ты знаешь не хуже меня, ты не представляешь, как директора местных отделений больничных касс радовались, когда выяснилось, что у нас появляется молодой коллега. И я тоже радовался. Одно дело мы, на чьей стороне опыт, и другое дело молодые коллеги, на чьей стороне новейшие достижения. Раньше ведь свой доктор, и универсальный, между прочим, Константин, доктор был в каждой деревне. А теперь и деревень остается все меньше и меньше, а о врачах говорить и подавно не приходится. А наши пациенты в них нуждаются не меньше, чем молодежь в каком-нибудь Гамбурге. И честно признаюсь: каждый раз, когда ты уезжаешь в Грайфсвальд, мне становится не по себе: а вдруг тебя переманят? У нас-то анестезиологам-реаниматологам, сам понимаешь, работы мало. А там можно развернуться. Да и зарплату тебе могут предложить куда большую. Не так ли?
Тин достал из вазочки кусок засахаренного имбиря. Повертев его в руках, он признался:
– Мне предлагали, доктор Тиров.
– Герд, – хладнокровно поправил его тот.
– Герд, – усмехнулся Тин. – Как видишь, я по-прежнему здесь. Мне хватает работы и здесь. И мне нравится здесь, до ближайших крупных городов рукой подать, и к моим услугам все удобства цивилизации. Я не чувствую себя обделенным в том, что касается профильной медицины. Так что можешь не бояться. Я вырос в небольшом городе, и как оказалось, в большом чувствую себя неловко. Не стоит волноваться о том, что меня увлекут огни большого города.
– Хотелось бы верить, Константин, – задумчиво отозвался доктор Тиров, изучая дым. – Но ты молод, а большой город полон соблазнов. Я понял бы тебя, если бы ты вдруг принял решение продолжить жизнь поблизости от крупной клиники. В конце концов, там у тебя было бы куда больше возможностей для самореализации. Но мне хотелось бы удержать тебя в моей практике. – Он вопросительно посмотрел на него поверх очков.
– Разумеется, Герд. Я твердо намерен провести в этом городе ближайшие тридцать пять лет жизни, – легко улыбнулся Тин и потянулся за имбирем.
Орех лениво поднялся на передние лапы, когда Тин окликнул его, выходя из дома. Госпожа Тиров, возившаяся с цветами, выпрямилась, вопросительно посмотрела на мужа и подошла к ним. Доктор Тиров положил руку ей на плечо и прижал к себе.
– Константин твердо намерен противостоять соблазнам на этом своем семинаре, Schatz, – шутливо-угрюмым тоном сообщил он ей. Она довольно заулыбалась.
– Некоторым соблазнам стоит поддаться, а, Константин? – подмигнула она.
Тин игриво посмотрел на нее и выровнял велосипед.
– Я очень критично отбираю соблазны, которым поддаюсь, – доверительно признался он. Доктор Тиров с удовольствием засмеялся шутке.
Орех поддался общим радостным настроениям, радостно гавкнул, попытался встать на задние лапы и облизать хотя бы кого-нибудь. Но Тин прикрикнул, Петра сдержала смешок, Герд отвел глаза, и никто не устремился защищать несчастное животное от произвола хозяина. Орех прижался к земле, трагично повесил уши и хвост, но удостоился лишь мимолетного взгляда Тина.
После еще одной серии напуственных фраз Тин пожал руку Петре и доктору Тирову и покатил велосипед в направлении дома. У него было неприлично много времени, чтобы не делать ничего, и совсем мало, чтобы подготовиться к семинару. Он был не самым большим, длился всего три дня, обещал быть насыщенным; и Тин непривычно для себя самого терзался предчувствиями. Тревожность, которая проявлялась в резких движениях, периодических чертыханиях и неподвижных взглядах, то накатывала волной, то осмотрительно сдавала назад, давая ему возможность передохнуть. И снова атаковала.
Нервность Тина передалась и Ореху: он то прятался под столом, за креслом, то зло и отрывисто гавкал, когда Тин со злостью захлопывал очередную дверцу. Только осознание того, что хочет он или нет, но у него есть свидетель, и успокоила Тина. Ужин прошел в безмолвии; Тин попытался почитать, но и это у него не выходило – он сидел, глядя поверх страницы, и рука тянулась еще раз пересмотреть программу, взять ноутбук, открыть интернет-страницу еще раз и убедиться, что все действительно так плохо, и одна фотография, одна официально-радостная фотография ставит крест на бесконечной череде месяцев, в течение которых жилось размеренно и почти бесчувственно.
Орех драматично вздохнул на своем матрасе, пытаясь хотя бы напоследок уязвить хозяина, затем, увлекшись, смачно зевнул. Тин беззвучно засмеялся; и когда он понял, что смеется нервно, его лицо исказилось, как от боли, он тяжело опустил голову на руку и выдохнул, стараясь производить как можно меньше шума. Не хватало еще и этот дом облагораживать страданиями по неизбывному.
Собачий тренер содержал и собачий отель вместе с женой. Туда и был доставлен Орех. Он повозмущался немного, пострадал, повзывал к совести Тина отвратительно фальшивым скулением, а затем ухватил огромную игрушечную кость и начал носиться по вольеру. Тин еще немного поболтал с тренером, постоял немного у сетки, убедился, что Орех радуется жизни не благодаря или вопреки, а исходя из ингерентного жизнелюбия, которого в его натуре явно было в избытке, и решился сделать пару шагов назад. И замер. Через несколько минут, снова поймав себя на мысли, что пялится в никуда, он нашел глазами тренера, улыбнулся ему, чувствуя, как непослушны улыбке мышцы на лице, хотя и забвение было совсем кратким, закинул голову, посмотрел на небо и вздохнул. Орех торжественно галопировал по вольеру; Тин невесело усмехнулся и пошел к машине. До поезда оставалось четыре часа.
Дорога была недлинной, вагон новым, попутчики молчаливыми. Но даже их компания оказалась в какой-то момент невыносимой. Тин вышел в тамбур, прислонился к стене, уставился в окно, глядя на поля, покрывавшиеся ровной зеленью, пусть пока и совсем светлой, на пролески, не спешившие насыщаться изумрудом, усмехнулся, глядя, как из-за деревьев выскочила косуля и еще одна, как они постояли, глядя на проносившийся поезд легендарно красивыми и совершенно пустыми глазами, изгибая длинные, но топорно сработанные шеи, отставляя тонкие, но лишенные изящества ноги, затем решили побояться и сделали огромный, привычно неуклюжий скачок в пролесок. Тин покачал головой, перевел глаза на монитор в тамбуре, расположенный рядом с дверью, посозерцал цифры, сообщавшие скорость поезда, менявшие друг друга то неторопливо, то лихорадочно, дождался блока новостей и решил вернуться. Попутчик отрешенно посмотрел на него и встал, чтобы пропустить к окну. Тин коротко поблагодарил его и открыл книгу.
Семинар обещал быть плодотворным. Не только бигфарма представляла свою продукцию, не только профильные журналы проявляли активный и вполне деятельный интерес, но и народ, который собирался с целью принять участие, учить и учиться, был разношерстным и тем более интересным. Некоторых Тин помнил по своему факультету, некоторых знал по студенческим конференциям, с несколькими людьми поддерживал приятельские отношения. Конференц-зал, в котором традиционно проводилось открытие, постепенно наполнялся.
Честь открыть вечер досталась председателю общества анестезиологии. Тин помнил его по курсу лекций, которые он читал в его университете – суровый человек, сухой, со швейцарским чувством юмора и тренированной улыбкой. Ощущение было, что она давалась ему тем тяжелее, чем приятнее тема, на которую он говорил. Следом за ним слово взял профессор Готлиц, который возглавлял клинику интенсивной медицины, милый, немного занудный человек; третьим был заместитель председателя профессионального союза анестезиологов, профессор Штайнмауэр. И его Тин помнил. Он любил читать лекции, еще больше любил принимать экзамены, время от времени развлекался и на семинарах. В интернатуре, которую Тин почти целиком провел в его клинике, в него были хотя бы немного влюблены все, включая медбратьев. Подойдя к микрофону, он привычным жестом ослабил галстук, пригладил волосы крупной рукой, оглядел зал прищуренными глазами – серыми, с желтыми крапинками, хотя в искусственном свете много ли различишь, да еще от противоположной стены – и сверкнул белозубой улыбкой. Тин не собирался его слушать: ничего интересного все равно сказано не будет, да, замечательно, что мы здесь, да здорово, что нам предстоит время вместе, да, отличное время для обмена опытом, – и он просто слушал его голос, которым профессор Штайнмауэр способен был очаровать истуканов с острова Пасхи, изучал, какими искрами вспыхивает рыжеватый оттенок в его волосах под ослепительно яркими лампами, и пытался изучить левую руку. В свое время в интернатуре он упорно отгораживался от слухов, что неуловимый Штайнмауэр как никогда близок к тому, чтобы оказаться окольцованным. Но профессор Штайнмауэр положил на микрофон правую руку, и на мизинце Тин разглядел перстень; он отвел в сторону левую руку, и на ней не было кольца. Тин выдохнул.
– Штайни не меняется, – раздалось слева от Тина. Он повернулся туда. Женщина была смутно ему знакома, возможно, студентка в его же университете.
– А он должен меняться? – невинно улыбаясь, поинтересовался он. – Спектакль восхитителен, зачем отказывать себе в удовольствии?
– Он вел у вас, да? – она понимающе посмотрела на Тина. – Ах, какой он лектор, – она возвела к потолку благоговейные ланьи, но не пустые, совсем не пустые глаза. – Голливуд рыдает по нему. В моей группе в него была влюблена даже самая убежденная феминистка.
– Киль, факультет интенсивной медицины? – легко осведомился Тин. – Константин фон Лиссов. – Он протянул ей руку.
– Вы учились на два года младше. – Она пожала его руку. – Тюрюк Хаэдин.
Тин кивнул.
– Я, кажется, помню вас. Мы не были знакомы, не так ли?
– О нет, милый Константин, к сожалению, нет. Так что теперь я наконец-то восстановлю упущенное. – Она перевела взгляд на кафедру, рядом с которой оргсовет семинара оживленно разговаривал. – Ну что ж, официально-хвалебная часть закончена, теперь можно перейти к гастрономической. Сядем рядом?
– С удовольствием.
Тин отлепился от стены, склонил голову, изучая собеседницу, вслушиваясь в едва заметный иностранный акцент, делавший выговор одновременно и более грубым и более певучим, любовался густейшими черными ресницами и бархатной смуглой кожей и охотно позволял ей говорить. А тетка она была ехидная. Писала диссертацию под руководством председателя одного общества, требовала рецензии от члена управляющего совета другого, настаивала на том, чтобы заниматься нейрохирургией, охотно рассказывала о шалостях обоих и страстно, в полном соответстви с восточной кровью, ругала консерватизм бонз. Тин рассеянно кивал, иногда вставлял незначительную реплику, переводил взгляд на другого собеседника, задавал ему общий вопрос и снова поворачивался к Тюрюк Хаэдин.
Она была удивительно эмоциональной и при этом неожиданно трезво мыслящей. С ней можно было поспорить, но Тину было лень. Куда приятней любоваться шоколадной кожей, заглядывать в ланьи глаза и провоцировать на очередной виток сплетен, которые очень часто соскальзывали с историй о том, какая фарма-компания сколько и за что платит и модели служебной машины председателя общества на Штайни, к которому она была благоразумно неравнодушна. На секунду Тину показалось, что она неравнодушна неблагоразумно, как шестнадцатилетняя школьница к Битлам: профессор Штайнмауэр окинул их группу заинтересованным взглядом, кивнул в ответ на склоненную в приветствии голову Тина, задержался на нем взглядом на секунду, на два лишних удара сердца – и перевел взгляд дальше. Тюрюк Хаэдин он улыбнулся многозначительно-криво и снова обратился к собеседнику.
– Holy crap, – благоговейно выдохнула она, прижала кулаки к пышной груди, красиво уложенной в откровенном декольте, – какой красавчик! Брэд Питт, не меньше! Какая харизма!
– Он полностью с вами согласен, коллега, – назидательно отозвался Тин. – Едва ли Штайни сомневается в своей харизматичности.
Собеседник, приехавший аж из Заарланда, был сутул, худощав, высок и обладал округлым рокочущим выговором, который, накладываясь на глуховатый голос, навевал воспоминания об упрямых и целеустремленных, пусть и замкнутых гномах, не меньше.
– Просто удивительно, как такая харизматичность плюс яхта на Лазурном берегу не мешают ему быть неплохим специалистом, – отрешенно отметил он, изучая содержимое бокала.
– Неплохим – все-таки явная литота, коллега, – сурово одернула его Тюрюк Хаэдин.
– Заарландцу позволительно, Тюрюк, – успокаивающе опустил руку ей на предплечье Тин. – Заарландцы смотрят на Альпы и снисходительно говорят: неплохая горка. Доктор Альтенхофен только что восхитился профессионализмом Штайни, не так ли?
Доктор Альтенхофен прищурился и посмотрел на него, стараясь оставаться суровым.
– Не без этого. А вы неплохо выглядите, – и он похлопал Тина по плечу.
Тюрюк Хаэдин засмеялась:
– Ослепительная внешность доктора фон Лиссова способна растопить сердце самых злых каменных троллей. – Она на секунду прижалась плечом к Тину, он обнял ее за плечи, довольно улыбаясь в ответ. Подняв глаза, увидел в окне, что Штайни смотрит на него, внимательно, прищуренными глазами, улыбаясь привычно, но и натянуто, и неторопливо, как бы нехотя, снял руку с ее плеча.
Профессор Готлиц поднял бокал, приветствуя Тина, и остался сидеть. Он приглашающе похлопал по креслу рядом с собой.
– Рад вас видеть, молодой человек, рад вас видеть. Как поживают Герд с Петрой?
– Превосходно, – радостно отозвался Тин. – Замечательно. Я с огромным удовольствием передам вам конфитюры, которые Петра просила вручить лично и при возможности совместно попробовать. Если вы, конечно, с уважением относитесь к айве с перцем чили.
– Ах, Петра, – обреченно вздохнул профессор. – Если бы она при этом не забывала спрашивать, как нам нравится...
– Последний ее опыт получился вполне съедобным, – обнадеживающе признался Тин.
– Молодой человек, вы хотите сказать, что после сорока пяти лет неудач она наконец научилась готовить?
– Вовсе нет. Но пирог был съедобным тем не менее, – усмехнулся Тин.
– Уве, присоединишься к нам? Доктор фон Лиссов работает в практике моего школьного приятеля в Мекленбурге. Вам, коллега, нужды представлять профессора Штайнмауэра, я так думаю, нет? – профессор Готлиц повернул голову к Тину.
– Не поверишь, Вальфрид, но мы с Константином знакомы. – Штайнмауэр протянул Тину руку, пожал ее, удержал в своей, глядя пристально, испытующе в его вежливо улыбавшееся лицо, и наконец отпустил. – Он проходил интернатуру в моей клинике.
– Ах, да. Было же в вашем резюме, молодой человек. Хотя мимоходом, подозрительно мимоходом. Ну что ж, тем проще. Доктор фон Лиссов намеревается писать докторскую диссертацию под моим руководством.
– Вот. Как? – вежливо осведомился Штайнмауэр. Тин ощутил холодок, коснувшийся его затылка. Оставалось надеяться, что пауза между словами осталась незамеченной остальными. Слишком неоднозначной она была. Слишком пристрастной. – Могу тебя поздравить. У тебя не должно быть никаких проблем. Константин удивительно надежный человек. Хотя и чрезмерно осторожный.
– Не всем быть экстравертами, дорогой Уве. Не всем же регулярно идти ва-банк. Ты случайно не играешь на фондовой бирже? – профессор Готлиц косо посмотрел на него.
– Нет, не испытываю ни малейшего желания, – отчеканил Штайнмауэр и добавил чуть более мягко: – Прекрасно обхожусь сделками с недвижимостью. Порекомендуешь что-то?
Профессор Готлиц вынужденно засмеялся.
– Вы не поверите, молодой человек, но и этот агрессивный альфа-самец когда-то был студентом. Более того, он был моим студентом. – Он поднял на Тина глаза. – Хотя это не мешало ему быть альфа-самцом.
– Вальфрид, помилуй, эти новомодные игры с альфовостью и бетовостью – когда уже они станут моветоном? – обреченно спросил Уве, вздохнул и откинулся на спинку кресла.
– Ты имеешь в виду ту статеечку? – профессор повернулся к Тину и пояснил: – Центральный журнал, вроде с солидной репутацией. А разницы между ним и GQ становится все меньше и меньше. Статеечка почти пристойная, но журналист-ку к Уве послали совсем зря. Она, бедняжка, не смогла остаться равнодушной. Хотя думаю, что и журналист пострадал бы точно так же.
– Дорогой Вальфрид, девочка совершенно не понимала, о чем пишет. Ты бы слышал, как она хихикала, когда я пытался объяснить, чем занимаюсь. Никогда не думал, что я такой пошляк и когда говорю о моей профессии, то превращаюсь в фата. А потом я вижу это в статье, да с этими дурацкими фотографиями. – Штайнмауэр раздраженно похлопал ладонью по колену.
– Как бы то ни было, она хотя бы потрудилась дословно передать вашу образность, – успокаивающе произнес Тин. – Но читать ее спекуляции было неловко.
Он выдержал многотонный взгляд Уве, переместившийся на него в мгновение ока.
– Неловко? – кротко осведомился он.
– Неловко, – кротко подтвердил Тин, тонко улыбаясь. Уве прищурился, приглашающе поднял уголок рта. – Как профессионалу неловко. Для человека непосвященного – статья вдохновляющая, вполне объективная, пусть и содержит слишком много восторгов в адрес интердисциплинарности. Критика, впрочем, тоже есть, и даже очевидная. В меру демократично. – Тин пожал плечами.
– Вы смеете не являться сторонником демократии, коллега? – заинтересованнно посмотрел на него профессор Готлиц.
– Я всего лишь согласен с Аристотелем, профессор, – бросил на него насмешливый взгляд Тин, прежде чем начать сосредоточенно изучать бокал.
– С ним трудно поспорить, – отрешенно признал Готлиц, глядя в потолок. – Крайне нелегко.
Уве смотрел на Тина и на доли секунды забывал улыбаться. У него были все те же серые глаза, со все теми же ржавыми крапинками, которые становились заметны только с совсем близкого расстояния. У него были выгоревшие волосы, коротко постриженные, с полоской ослепительно белой кожи по линии их роста, контрастировавшей с загорелой. Вокруг глаз появилась пара новых морщинок. Губы были плотно сжаты, их уголки подрагивали, не в силах согласиться на улыбку. Тину не нужно было поднимать на него глаза. Но он сделал над собой усилие. У него даже хватило сил вопросительно приподнять брови. Остался удовлетворен своей выдержкой: Штайни не смог беспечно улыбнуться в ответ. Даже у его хваленой харизмы есть пределы.
– М-да, как трудно изобрести нечто новое в нашем старом мире, – тяжело вздохнул Готлиц.
– Особенно когда ты изобрел достаточно нового на энное количество патентов, да, Вальфрид? – мгновенно отозвался Штайнмауэр, явно радуясь возможности сменить тему. – Как тебе вино?
– Вполне. – Профессор почти не сделал усилия, высказывая одобрение.
– Желаешь еще?
– Нет, спасибо. Я подумываю о комендантском часе, который установил мне мой врач. Думаю, пора начать его соблюдать.
– Константин? Вина?
– Нет, благодарю. – Тин отставил пустой бокал на столик.
– Кофе? – предложил Уве, улыбаясь легко, непринужденно, очаровательно, говоря густым, едва уловимо интимным голосом, используя хорошо знакомые, но непонятные постороннему интонации. Хотелось многого, пасть на колени, растерзать его на миллионы мелких кусков, выскользнуть из одежды – возможно даже одновременно. Приходилось оставаться прохладно-вежливым.
Тин помедлил, выигрывая время, сжал ягодицы, осторожно перевел дыхание.
– Если вас не затруднит, – ровно ответил он.
– Буду счастлив обязать.
Штайни был последователен во всем, и в методах обольщения тоже. Простые слова он мог произнести так, что волосы вставали дыбом. Тин не мог поверить, что и с несчастной журналисткой он был так же отстранен, как хотел представить.
– Эспрессо, – не спрашивал, напоминал Уве.
– Двойной, – почти согласился Тин.
– Без сахара.
Тин склонил голову.
Штайни встал.
Профессор Готлиц осведомился, что хотел посетить Тин, предложил поужинать, отпустил пару шуточек в адрес руководства и откланялся. Тин встал, прощаясь с ним, и остался стоять.
– Здесь подают бюджетный кофе, Тин, – раздалось у него за спиной, и его имя рассыпалось по коже хрустальной дробью, так его высмаковал Уве. – Двойной эспрессо едва ли отличается от обычного фильтрованного. Можем подняться ко мне – кенийский очень хорош.
Тин посмотел на него через плечо. Уве изучал его, склонив голову, стоя на нейтральном расстоянии, но Тину казалось, что он прижал его к себе и обжигает своим телом.
– Ты остановился в этом отеле? – скороговоркой уточнил он.
– Двести тринадцатый.
Тин склонил голову.
– Я попрощаюсь с знакомыми, – бросил он, отворачиваясь.
Ему могло показаться, но он слышал это проклятое, восхищенное, снисходительное «Ах, Тин...». Или оно было только восхищенным?
========== Часть 3 ==========
Помещение было ярко освещенным, наполненным гулом голосов, который становился тем громче, чем больше спиртного оказывалось выпитым; люди перемещались все неторопливее, шутили все откровеннее, смеялись все более дерзко, и никто не собирался задумываться о том, что завтра предстоит вроде как насыщенный день. Время еще было, настроение улучшалось.
Тин шел неторопливо, оглядывал зал, прикидывая, к кому бы еще подойти, старался отогнать мысль о взгляде, который мог сверлить ему спину, но не хотел сильно обольщаться на свой счет, и усердно пытался не ругать себя за совершенно легкомысленное согласие. В конце концов, у него командировка, ему положено заниматься чрезмерным поглощением алкоголя и развратом. А науку следует оставить на потом. Впереди еще два дня. Он посмеялся в компании врачей снизу, из района Шварцвальда, сделал пару комплиментов коллегам из новых земель, получив в ответ куда более значительную их порцию, подошел наконец к Тюрюк Хаэдин. Она истребовала у него обещание обязательно навестить ее как-нибудь, когда он будет в районе Шлезии, Тин пригласил ее в гости, рассказав о непритязательных красотах Мекленбурга, но весь вид Тюрюк вопил о том, что маленькие города ее не прельщают. Ни капли не прельщают. Тин понимающе усмехнулся и откланялся. Доктор Альтенхофен стоял у стола с закусками, сосредоточенно выбирая между несколькими. Его бокал стоял рядом. На оклик Тина он отреагировал не сразу, неторопливо поднимая голову и прищуривая глаза.
– Уже уходите, доктор фон Лиссов? – рассеянно поинтересовался он.
– Я привык рано ложиться. Маленькие городки располагают именно к такому режиму, – легко отозвался Тин, пожимая плечами и улыбаясь так, словно рассчитывал, что его поймут.
– Это верно. Мы всегда вставали с рассветом и укладывались с закатом. – Он вздохнул. – Конечно, в более позднем пробуждении тоже есть своя прелесть. Впрочем, сейчас мне досталась честь заботиться о псе моей подруги. Так что о том, чтобы подольше поспать, можно забыть.
Тин тихо засмеялся. Доктор Альтенхофен посмотрел на него прищуренными глазами.
– У нее маленький, гаденький терьер с каким-то идиотским довеском впереди названия породы. И таким образом название породы оказывается на порядок больше самогó гадкого создания. А его имя по паспорту и того длиннее.
– У меня гаденький полукровка средних размеров, – в притворном отчаянии признался Тин. – Со скромным именем, но огромнейшими ушами.
– Он хотя бы не настаивает на диете из кожаных туфель?
– Нет. Предпочитает кротовью.
Доктор Альтенхофен усмехнулся поощряюще. Тин чувствовал на спине тяжелый взгляд. Он сделал шаг в сторону якобы с целью осмотреть закуски на столе, и поднял глаза на окно, надеясь в его отражении рассмотреть, чей взгляд сверлит его спину. Штайни стоял у входной двери, переговариваясь с коллегами, и смотрел на него неодобрительно.
Говорить о собаках можно было бесконечно. Собака подруги Альтенхофена отличалась общей шкодливостью, но при этом была умнейшим созданием, что не могло не вызывать его недовольного одобрения. Тин печально воздевал глаза к небу, когда делился своим мнением о жизнерадостности Ореха. У Альтенхофена был очаровательный смех – глуховатый, немного неловкий, самую малость застенчивый; рот изгибался кривовато, а глаза опускались и вскидывались на собеседника, заражая его озорными искрами.
– Ну что ж, с вашего позволения я откланяюсь, чтобы не заснуть прямо под столом, – наконец произнес Тин.
– Да, здесь это одобрения не вызовет. Да и перед научным руководителем будет неудобно, – смиренно признался Альтенхофен, в притворном опасении оглядывая зал.
Тин понимаще покивал головой. Альтенхофен протянул ему руку.
– Буду рад продолжить знакомство. Возможно даже совместно с собаками.
– Взаимно, коллега, – Тин пожал протянутую руку, и почему-то по плечам пробежали мурашки от ощущения шершавой ладони, узловатых пальцев, основательно сдавливавших кисть; грудь наполнило предвкушение чего-то необычного, и он задержал на секунду дыхание, избавляясь от странного ощущения.
В зале осталось красноречиво мало народу, да и тот выглядел не очень жизнерадостно. Во всех направлениях люди пожимали руки, хлопали по плечам, протягивали визитки, и Тин решил поспешить, чтобы не оказаться самым последним.
Он медленно поднимался по лестнице, пытаясь себе самому объяснить, зачем решился на то, на что решился. Это было как минимум необдуманным. Глупым, неразумным, ему, сдержанному, прагматично мыслящему, избегающему радикальных решений и рискованных предприятий, явно не свойственным; и не было сил не принять это решение, либо отказаться от него, зная, что его ждут. Тин провел рукой по перилам, становясь на последнюю площадку, помедлил совсем немного и взялся за ручку двери.
Коридор на втором этаже был пуст. Тин подошел к нужной двери и постучал по ней. Уве открыл и замер в проеме, с любопытством глядя на Тина.
– Ты не спешил, – со странной интонацией произнес он. Тин пожал плечами и склонил голову к плечу.
– Дашь войти, или мне идти к себе в номер, так и не отведав твоего хваленого кенийского кофе? – кротко спросил он.
Уве усмехнулся, отступая.
– Без кенийского кофе ты явно способен вполне безболезненно обойтись, не так ли, драгоценный Тин?
– Я прекрасно обхожусь латиноамериканским, драгоценный Уве.
Уве сделал шаг к нему, положил руку на спину, не подталкивая, не направляя, наклонил голову к его уху и тихо промурлыкал:
– Я помню, милый Тин. И я помню, какие церемонии ты был способен разводить, приготавливая и смакуя чай.
Тин повернул к нему голову и кротко улыбнулся, одними уголками губ, скользя по его лицу бархатными темно-карими глазами, изучая его, оценивая свежевыбритое лицо, глубокие морщины над скулами, острый взгляд настороженно прищуренных глаз.
– Не могу отказать себе в удовольствии, – глубоким голосом и совсем тихо отозвался он. – Кофе слишком резок, чтобы его смаковать.
Уве положил руку ему на плечо.
– И это я помню, – он провел пальцем по коже под воротником рубашки. – Ты пил его, тем не менее пил.
– Можно ли устоять перед соблазном? – философски пожал плечами Тин, вытягивая из брюк Уве полы его рубашки. Мышцы живота дрогнули под его прохладными руками; Уве потянулся к его губам.
Тин послушно откидывал голову назад, подставляя шею под его губы и язык, отводил назад плечи, позволяя ему стягивать пиджак и рубашку, проворно расстегивал рубашку, судорожно переводил дыхание, когда Уве позволял ему, прижимался всем телом к его телу, скользя руками по его спине, упиваясь, наслаждаясь, страдая и смакуя что-то слишком похожее на боль.
Уве целеустремленно избавлял его от одежды, и Тин не хотел думать, как это выглядит – глупо, неловко, умилительно – и взамен расстегивал брюки на нем. Кровать послушно прогнулась, и дурацкая мысль змейкой заскользнула в голову, что гостиничные номера слишком удобно обустроены для того, чтобы пользовать мебель по самым разным назначениям, и снова улеглась, затаилась, не мешая Тину изгибаться под пальцами Уве. Тин, к сожалению, не мог похвастаться добротностью и основательностью телес – ни бабка с дедом не были крупными, ни мать не отличалась значительностью физического присутствия. Отец, скорее всего, тоже был типичным азиатом, а значит обладал некрупным телосложением. Тин был высок и при этом по-юношески неширок. Одна из причин, удивлявших его – почему Уве все-таки обратил на него внимание? А у него были широкие крестьянские руки, удивительно послушные, с теми же шершавыми ладонями, от прикосновения которых Тин около часа назад едва не вздрогнул, когда Альтенхофен пожимал ему руку, и особым удовольствием для Тина оказывалось следить, как загорелые руки Уве оглаживают его бледную кожу.
А Уве был крупным мужчиной, не гнушавшимся тяжелой работы, наслаждавшимся деятельностью, и когда он нависал над Тином, тому казалось, что он почти полностью отгорожен от мира. Почти забытое ощущение снова подтвердилось, когда Уве, опираясь о руки, изучал его.
– Ты изменился, милый Тин, – пристально глядя на него, признал Уве. Тин недовольно дернул плечом, на секунду искривил губы и обхватил ногами его бедра, прижимая к себе.
– Какая чушь, – раздраженно выдохнул он, обхватывая руками шею Уве, и потянулся к его губам.
Он пах табаком, самую малость, кажется, и губы горчили, но это ощущение на секунду отвлекло внимание Тина, и он снова нырнул в поцелуй с головой, забывая о том, что не против был бы выпить кофе, что верхний свет в номере был отвратительно ярким, что постельное белье было жестким и накрахмаленным, а самому ему не мешало принять душ. Но не хотелось, и не было ни малейшего желания терять время на всякие глупости. Уве послушно откинулся на спину; Тин оседлал его, выпрямился, положил руки на грудь, изучая его лицо, удивляясь, что Уве не улыбается; казалось, что он не хмурится только потому, что слишком увлечен кое-чем другим, и Тин нагнулся, потянулся к его подбородку, чтобы прикусить кожу на нем и извиняющимся жестом провести по месту легкого, почти незаметного укуса языком. Он подул на влажное место, обвел языком контуры челюсти и прислушался: кажется, Уве что-то спросил. Нет, просто сказал: милый Тин, ах, милый Тин... Он был милым, да, что и доказывал, соблазняя Уве, возбуждая, лаская, наслаждаясь. И через некоторое время, в полном соответствии со своими воспоминаниями, оказался подмят Уве, устанавливавшим свою власть.
Тин лежал на спине, согнув ноги в коленях, раскинув руки и прикрыв глаза. Матрас качнулся под телом; он лениво скосил глаза на Уве – тот приподнялся на локте.
– Будешь кофе? – спросил он, любуясь Тином, бережно проводя пальцами по его талии.
Тин довольно угукнул, не открывая глаз. Он выгнул поясницу, потянулся, не открывая глаз, поубеждал себя, что дремать сейчас не есть хорошо, нелениво зевнул. Он приоткрыл глаза: Уве стоял спиной, но обернулся на шорохи, улыбнулся ему и снова повернулся к кофе-машине. Тин закрыл глаза, осторожно втягивая аромат кофе. Ему было одиноко, хотя и тело наслаждалось истомой, и чувства были блаженно притупленными.
– Твой двойной эспрессо, милый Тин, – Уве опустил поднос с двумя крохотными чашками на постель, нагнулся и поцеловал его ключицу.
– Твой эспрессо с сахаром, – Тин сморщил нос и повернулся набок, устраиваясь в некоем подобии одалиски перед светлыми очами падишаха.
– Увы, – даже не пытаясь казаться пристыженным, беспечно отозвался Уве. – Я был рад тебя видеть.
– Был? – флегматично уточнил Тин, взяв чашку и принюхавшись. – Хорошо, – растянулся он в довольной улыбке.
– Не придирайся, – засмеялся Уве. Тин поднял на него глаза. Ему далось нелегко такое простое движение, сложно было смотреть на Уве дружелюбно, с симпатией – и ничего больше. Да еще и не ежиться при этом под его цепким взглядом, испытующе оглядывавшим Тина. – Был рад, сейчас рад еще больше. Чем ты занимаешься сейчас?
– Ты же слышал, работаю в практике школьного друга профессора Готлица. Почасовка там, почасовка сям. Пытаюсь писать докторскую, – флегматично перечислил Тин, изучая кофе в чашке.
– Какая достойная замена карьере в крупной университетской клинике, – саркастично откомментировал Уве.
– Ах, дорогой Уве, – лениво вздохнул Тин, сделав глоток. – Я всегда чувствовал себя несколько... м-м, неуютно в том муравейнике. Я все-таки предпочитаю знать пациентов, а не исключительно их дела.
– А как же твоя мечта? Реаниматология? Медицина несчастных случаев?
– Она так и остается мечтой, – неторопливо отозвался Тин. – Но не поверишь, мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. И у меня достаточно практики по профилю, как ни странно. А медицина несчастных случаев хороша и для маленького городка, поверь. Недавно сын моей соседки умудрился основательно повредиться, катаясь на велосипеде, всего в полукилометре от моего дома. Мне даже не довелось включать сирену и натягивать китель – так добежал, в домашних брюках. Чем не практика? Кстати, в знак признательности получил роскошный домашний пирог.
Он поднял на Уве глаза. Тот слушал его, внимательно слушал, хотя куда больше его интересовали губы Тина. Чтобы немного угодить ему, самую малость, самую крошечную, сладкую малость, Тин улыбнулся немного капризно, складывая губы бантиком. Он повел плечом, и на него тут же переместился взгляд Уве.
– По тебе совсем незаметно, что тебя балуют домашними пирогами, – усмехнулся он, проводя ладонью по руке Тина, перемещаясь на талию, на бедро. – Наверное, остальное время ты сидишь на жесткой диете?
– Помилуй, жизнь слишком хороша, чтобы отказывать в маленьких приятностях. Нет, ни на какой диете я не сижу. Всего лишь практикую умеренность во всем, – неторопливо ответил Тин, следя за рукой Уве, стараясь звучать как можно более непринужденно, укрощая возбуждение, сдавливавшее легкие, перехватывавшее горло, провоцировавшее испарину.
– В тебе так много ориентального, мой милый Тин, – Уве чуть наклонился вперед, не приближаясь к нему вплотную, заглядывая в глаза, урча как большой кот, даже выгибаясь немного в порыве удовольствия. – Ты умудряешься быть спокойным в самых критических ситуациях, ты такой почтительный всегда, такой дивно нечитаемый, милый Тин...
Тин приоткрыл рот, переводя дыхание в такт фразам Уве, которые скатывались с его губ подобно крупным бусинам, вибрировавшим в желобе. В такт этим вибрациям и по телу Тина пробегали волны самых разных эмоций, добегали до кончиков пальцев, замирали там, как следует уколов их предварительно, и крошечными разрядами взбирались по рукам, ногам вверх к затылку. Уве улыбнулся слабо, не стремясь скрыть триумф, глаза замерцали удовлетворенно, отметив и признав, что за эмоции Тин переживает; он не приблизился к Тину ни на миллиметр, взамен опаляя жарким взглядом.
– Увы мне, увы, дорогой Уве, – проворковал Тин, – увы мне, интроверту, в царстве фрондеров.
– Ты звучишь осуждающе, милый Тин, – ласково упрекнул его Уве.
– Нисколько, всего лишь отстаиваю свое право на автономность. Не этого ли ты всегда требуешь от своих студентов? – слегка злорадно улыбнулся Тин.
Уве засмеялся и откинулся назад.
– Кто бы подумал, что это принимает такие угрожающие очертания, – отозвался он. Тин снова повел плечом, отказываясь высказывать более определенную реакцию, и снова принюхался к кофе. Уве взял свою чашку и отпил из нее.
– У тебя есть друг? – небрежно спросил он.
Тин медленно поднял на него глаза.
– А у тебя?
Уве вскинул брови, глядя на него слегка насмешливо.
– Мне кажется, я вправе требовать взаимности. Давай так: ты сообщаешь мне, а взамен – взамен, дорогой Уве – я делюсь своей личной жизнью. Принцип взаимности в действии. Вполне в духе современного гражданского общества.
Уве хмыкнул.
– Есть.
– Есть, – ответил взамен Тин, удивляясь, как легко, оказывается, говорить неправду.
– В Гамбурге.
Тин удивился:
– Ты собираешься переезжать в Гамбург? Или он собирается переезжать к тебе?
– Мы решили остановиться на гостевом браке, – беспечно отозвался Уве.
«Читай: удобно, чтобы ходить налево», – перевел Тин. Кажется, и во время оно, когда Тин был не просто увлечен, сражен профессором Штайнмауэром наповал, у того точно так же был друг.
– Я более старомоден. Наш совсем небольшой город изобилует легитимными экземплярами, настаивающими на стабильных отношениях, – хмыкнул Тин, отводя глаза, отказываясь как-то комментировать признание Уве, отказываясь и себя укорять, что вторгается в чьи-то отношения – уже второй раз.
– Вот как, – неопределенно отозвался Уве, отставляя чашку. – И каков он?
Тин сделал вид, что задумался.
– Он... забавный экземпляр, – неожиданно улыбнулся он. – Оптимист по жизни.
– Блондин? Брюнет?
Это было неожиданно – не поинтересоваться профессией, а начать со внешности. Или Штайни настолько уверен в благоразумии Тина, который не смог бы решиться на близкие отношения с человеком без кола без двора?
– Русый. Почти рыжий, – усмехнулся Тин, глядя на волосы Уве, выгоревшие надо лбом до блекло-рыжеватого цвета.
– Вот как, – самодовольно ухмыльнулся Уве, прищуриваясь. – А глаза?
Тин позволил себе паузу.
– Карие, – отозвался он, припомнив, какие глаза были у Ореха.
– И каков он характером, помимо того, что забавный оптимист по жизни? – довольная улыбка Уве почему-то померкла.
– Дорогой Уве, это самая оптимальная характеристика этого балбеса. Твоя очередь.
– Милый Тин, это совсем неинтересно. Мой друг красив, ухожен, самостоятелен, наслаждается жизнью в Гамбурге. Мне куда интереснее узнать немного больше о тебе. По старой памяти. – Уве подался вперед, заслоняя своим лицом всю комнату, вынимая пустую чашку из рук Тина, не глядя опустил ее на поднос, не отводя от него взгляда, продолжая улыбаться, но уже не игриво, а немного натянуто.
– Это совсем неинтересно, Уве, – криво улыбнулся Тин, опуская опустевшую руку ему на предплечье. – Ты хочешь узнать что-то о буднях простой врачебной практики? Собираешься писать сценарий сериала для WDR?
Уве усмехнулся; он опустил руку Тину на лопатку, погладил спину.
– Если ты настаиваешь, милый Тин... если ты настаиваешь. Нет, не хочу. А ты изменился. Ты занимаешься спортом? – неожиданно спросил он, проводя рукой по спине до ягодиц, возвращаясь обратно. Тин не убирал руку с его предплечья, наслаждаясь игрой мышц под рукой, теплом кожи, запахом, близостью – всем, запирая ту комнатку в мозгу, которая терзалась мыслями о друге, который в Гамбурге, о том, что у Штайни будут еще конференции, еще студенты, да мало ли кто еще.
– Это слишком громко сказано, – прикрыв глаза, отрешенно возразил он, находя куда больше удовольствия в том, чтобы плавиться под руками Уве.
– Нет? Не похоже, – прошептал Уве Тину в шею. – Похоже как раз на усердные тренировки. Или?
– Пробежки, всего лишь пробежки, – выдохнул Тин, откидываясь на спину, подставляя ему грудь, шумно выдыхая, жадно втягивая воздух, выгибаясь.
– Интенсивные, очевидно, – усмехнулся он, прикусывая кадык. Тин сглотнул. – Ти-ин?
– Ну хорошо, интенсивные, – нервно согласился он, раскидывая руки, упираясь пятками в кровать, ощущая, как все тело подается навстречу Уве.
– Заметно, очень заметно. Какие отменные у тебя мышцы, милый Тин, просто удовольствие анатома. – Уве провел языком по груди; Тин втянул живот. – Особенно здесь, – он легко провел пальцем по его левому бедру. Тин резко сжал ноги. Но заслышав довольный смешок Уве, вскинул голову, гневно посмотрел на него и согнул ногу в колене. – Ага, musculus vastus lateralis, – прошептал Уве, проводя пальцем по бедру, спускаясь к колену, прикусывая кожу время от времени, довольно поглядывая на лицо Тина, закинутое назад, напряженное, с приоткрытым ртом. – Отлично развитый musculus quadriceps femoris, и вот он, musculus gastrocnemius, – Уве сжал икру, до боли; Тин выдохнул. – Musculus vastus medialis, – шептал он, проводя языком по колену; Тин беспомощно сжимал ягодицы и выгибал тело под алчными губами Уве, лихорадочно сжимая и разжимая пальцы. – Musculus sartorius… И здесь, – Уве переместился к правому бедру и снова проследил мышцу от колена вверх по бедру. Тин покорно издал стон, перевел дыхание, затаился. – Musculus obliquus externus abdominis… – Уве выдыхал после каждого слова, касаясь кожи губами, неожиданно вскинул голову и огляделся. Спрыгнул с кровати, подбежал к бару, открыл холодильник и выхватил кубик льда. Тин, вскинув голову, издал обреченный стон. Уве приблизился к нему, поднес к его лицу кубик льда. Тин отклонился назад и уронил голову на подушку.
Уве опустил кубик ему на грудь и зашептал прямо в ухо:
– Musculus pectoralis... ну, Тин?
– Major, – послушно отозвался Тин.
– Linea...
– Alba…
– Musculus rectus…
– Abdominis, – механически ответил Тин, следя за движением кубика по животу, задерживая дыхание, когда чувствовал, как подрагивали мышцы под ним. Уве тихо выдохнул, прижимая кубик к талии всей ладонью, скользя вверх к подмышке и снова ведя ладонь к бедру.
– Musculus piramidalis, – удовлетворенно произнес Уве, водя кубиком по паху. Тин тихо заскулил, раскидывая ноги, застывая и выгибаясь.
Уве полулежал на кровати, следя за одевающимся Тином. Рядом с ним стыл горячий еще кофе, который Тин приготовил и принес ему; он следил за Тином, не скрывая, любовался им.
– Я с трудом представляю тебя в простой семейной практике, милый Тин, – лениво признался он. – С другой стороны, возможно, это отличное место для тебя.
– Честно признаться, я сам с трудом представлял себя в ней. С другой стороны, я отлично чувствую себя теперь там, – с усмешкой признался он, надевая рубашку. – Начинать всегда нелегко.
– Как ты ее выбрал? – небрежно поинтересовался Уве.
– Скорей, она выбрала меня. И недалеко от дедушки с бабушкой, что тоже немаловажно.
– Можно подумать, ты отослал бы свое резюме куда-нибудь в Рейнский регион, – хмыкнул Уве и отпил кофе.
– Едва ли, – охотно согласился Тин, застегивая ремень.
– Поужинаем сегодня?
Соблазн был велик. Бесконечно велик. Почти неодолим.
– Извини, у меня другие планы, – кротко улыбнулся Тин.
– Завтра? – заинтригованно улыбнулся Уве, подтягивая ногу.
– Может быть, решим позже? – вежливо отозвался Тин, подхватывая пиджак.
– Хорошо, – Уве побарабанил пальцами по блюдцу. – Давай решим позже. Твой номер телефона ведь не изменился?
– Нет. А должен был? – усмехнулся Тин, подходя к нему.
– Не должен был, – заулыбался Уве, как-то по-особенному, словно огромный кошак, присматривавшийся к добыче перед прыжком.
Тин прищурился, наклонился.
– В таком случае до звонка, дорогой Уве, – произнес он в опасной близости от его губ. Уве не пошевелился податься вперед, хищно следя за ним. Тин не пошевелился податься вперед, наблюдая за Уве. После трехсекундной паузы он выпрямился. – Позволь откланяться, профессор Штайнмауэр.
– Позволяю. – Уве снисходительно склонил голову. – Ты заглянешь на мой семинар?
– Я планировал, – признался Тин, отходя к двери. – До встречи.
– До встречи, милый Тин, – после паузы отозвался Уве, не улыбаясь более, не отводя от него тяжелого взгляда. Тин тихо закрыл за собой дверь, спасительно отсекая себя и от последних слов, и от его алчных глаз. Теперь осталось всего ничего – дойти до номера и перевести дух.
Тин дошел до своего номера, тихо радуясь блаженному онемению, которое исподтишка охватило его. Голова была благословенно пустой, тело томно-удовлетворенным, суставы невероятно гибкими. Он вошел в номер, закрыл дверь, потянул мышцы шеи, небрежно бросил пиджак на стул и упал на кровать. Попытавшись закрыть глаза и задремать, Тин задышал ровно и размеренно; только дыхание упрямо не становилось умиротворенным, и он открыл глаза и уставился в потолок.
В комнате медленно светлело; предметы приобретали все более отчетливые очертания, а Тин все лежал с открытыми глазами, не заботясь о том, что рубашка и брюки помнутся. Наконец он выдохнул и решил сходить в душ, чтобы занять себя хоть чем-то. Он поднес руку к шее, чтобы расстегнуть первую пуговицу, случайно прикоснулся к коже и вздрогнул от необычайно яркого ощущения от прикосновения. Тин провел рукой по волосам и снова вздрогнул, потому что и на голове кожа была неожиданно чувствительной. Он сжал зубы и закрыл глаза.
Постояв немного, переведя дыхание, он все-таки нашел силы снять рубашку. Бросив ее на стул к пиджаку, Тин направился было к ванной комнате, но передумал и решил начать с приведения комнаты хотя бы в относительный порядок. Он повесил пиджак, сложил рубашку, огляделся. Застыл. Выдохнул, собрался и пошел в душ.
Доктор Альтенхофен помахал ему. Он уже сидел за столом, сложив руки на груди, поджидая, когда Тин подойдет.
Приподнявшись, пожав руку, он опустился и сурово признал:
– В этом отеле подают неплохой завтрак.
– Вот как? – вежливо отозвался Тин, усаживаясь.
– Ну да. помнится мне, я был на семинаре в Байройте, так кроме этих сосисок, там и есть было нечего. Удручающе, знаете ли. Здесь по крайней мере есть выбор. Позволите налить вам кофе?
– Спасибо, – благодарно улыбнулся Тин.
– В вашем номере плохая кровать? – сочувственно поинтересовался Альтенхофен, ставя кофейник.
Тин неопределенно покачал головой и передернул плечами.
– Боюсь, на матраце в ней сэкономили, – предположил он, даже не пытаясь вспомнить, что за кровать была в его номере. Зато Уве был явно не обделен.
– Увы, увы, – согласно закивал Альтенхофен. – Боюсь, и в моем номере та же проблема. Да и вентиляция в ванной комнате могла быть получше.
– Согласен, – отстраненно признал Тин, тихо радуясь, что его собеседник горел желанием побрюзжать, и надеясь, что он будет предаваться этому занятию со всей душой, а от него не потребуется активного участия.
До первой лекции оставалось время, и Тин решил немного прогуляться. Он замер у входа на крыльце, закинул голову к небу и вдохнул сырой воздух. Погода была пасмурной, но дождя явно не предвиделось. Он огляделся, спустился вниз, вышел на тротуар и повернул налево.
В паре кварталов от отеля начинался парк, пока еще безлюдный, и прогулка по тихим тропинкам приносила неожиданное облегчение. Думать о том, что ждет дальше, а особенно после того, как Тин вернется домой, не хотелось. Он остановился перед огромным платаном, закинул голову вверх, любуясь толстыми сучьями; улыбнулся белке, выскочившей на тропинку прямо перед ним, старательно обошел лужицу. Наконец вспомнил о времени, посмотрел на часы и тихо ругнулся.
Тин не любил опаздывать чуть больше, чем не любил приходить первым. Последнее ему не грозило. А вот первое – очень даже. Он на ходу стянул плащ, открыл дверь и проскользнул в помещение. Профессор Штайнмауэр подготавливал презентацию, стоя у кафедры, пока еще в пиджаке и галстуке. Это было ненадолго – он сбросит пиджак максимум через пятнадцать минут, закатает рукава рубашки, обопрется локтем о кафедру, небрежно засунет руку в карман брюк, как делал это столько раз на памяти Тина. А пока профессор Штайнмауэр был при полном параде. Когда дверь открылась, он вскинул голову и встретил Тина напряженным взглядом. Неожиданно напряженным. С чего бы – оставалось только догадываться. Тин склонил голову в приветствии, поздоровался с сидевшими неподалеку; Штайни помедлил секунду и снова уставился на экран лэптопа.
Опустившись на ближайшее свободное место, бросив плащ на стул рядом, достав ноутбук, Тин открыл его и замер. Штайни отошел от кафедры и огляделся. Его прохладные глаза изучали сидевших перед ним. Тин ждал, затаив дыхание.
Штайни улыбнулся широко и ослепительно, и это Тин тоже помнил. Первые две секунды, которые он присматривался к аудитории, вызывали у Тина почему-то самые бурные эмоции. Штайни словно проживал в них полжизни, планируя кампанию и почти выигрывая ее, но подготавливаясь к решающему сражению и на его счет особых иллюзий не питая. Далее должны будут следовать обычные слова, предваряющие что-то рутинное, преподносимое как величайшее завоевание.
– Доброе утро, уважаемые коллеги, – начал Штайни ровным, хорошо поставленным голосом, оглядывая аудиторию. По рядам пронесся гул приветствий, слушатели устроились поудобней, Штайни развлекал себя и присутствовавших легкомысленными фразами. Он добрался до самого последнего ряда, задержал взгляд на Тине, дернул уголком рта и отвел взгляд.
Штайни отпустил шутку по поводу официальности присутствующих и своей нелюбви к униформам и снял пиджак. Пятнадцать минут. Кажется, он делился своими наблюдениями о достижениях НИИ. Тин жадно следил за его руками, поднимавшимися к вороту рубашки, за пальцами, уверенными, выразительными движениями развязывавшими галстук и прятавшими его в карман, расстегивавшими верхние пуговицы, и старался не дышать, потому что опасения, что он захлебнется своим же стоном, были небезосновательными. Уве оперся о кафедру, что-то рассказывая, засунул руку в карман – девятнадцать минут; Тин осторожно переступил. Для него всегда было удовольствием следить за Штайни, просто следить, плавая в его голосе, впитывя интонации, отмечая мелодику его фраз. И он не мог отказать себе в удовольствии, пусть оно и было окрашено привкусом горечи. Время от времени Тин прятал лицо в лэптопе, якобы усердно пользуясь знаниями, сообщаемыми лектором, а когда поднимал, Штайни смотрел на него, насмешливо щуря глаза, и почти сразу отводил их. Тин сжал бедра и сглотнул.
Уве объявил перерыв, отошел за кафедру, принялся с сосредоточенным видом изучать сообщения на телефоне. Через пару минут телефон Тина завибрировал. Он поднял глаза на невозмутимо откладывавшего телефон Уве. Сообщение было до наглости простым: «Ты решился поужинать со мной?». Тин посмотрел на Уве. Тот повернул к нему голову. Тин кивнул. Уве удовлетворенно улыбнулся.