«Мы ностальгируем то ли по нулевым, то ли по девяностым, потому что в настоящем — огромное здание ФСБ»
 — Сергей, когда ты впервые выступил против так называемой СВО?
— Сергей, когда ты впервые выступил против так называемой СВО? — Да с первого же дня, 24 февраля, как только открыл новости, сразу же начал высказываться против войны, подписывать открытые письма.
— Ты понимал, что это может грозить тебе запретом на профессию?
— Я понимал, что не могу позволить замазать себя в крови, не могу пойти против самых базовых понятий о морали и нравственности. При том, что, конечно, я понимал, что полноценной профессии у меня, скорее всего, больше не будет.
Но о какой профессии могла идти речь, если буквально за несколько дней было принято столько законов, запрещающих нормальную жизнь? В этих условиях просто невозможно заниматься честным искусством.
— Чувствовал ли ты себя свободным в России до 24 февраля прошлого года?
— Конечно, нет. Но я, как и очень многие люди вокруг меня, жил мыслью, что мы эту свободу приближаем, мы работаем на это. Я думал, что это уже неотвратимо. Оказалось, что не так. Но я все-таки, кстати, продолжаю верить в то, что это какое-то временное явление. И хорошо, что мы как-то себя сохраняем, — люди, которые не готовы просто так отказываться от своих желаний, от того, что они считают правильным. Мы продолжим делать то, что мы делаем, и это однажды пригодится.
— Ты и драматург, и поэт, а теперь еще и писатель. Какое из занятий ты считаешь основным?
— Я драматург, это моя первая самая главная профессия.
— Скажи, какой конфликт триггерит тебя как автора? Что именно, какая тема вынуждает тебя говорить? Ты думал об этом?
— Да, думал. Самое главное — поиск свободы. Это идет у меня из текста в текст. Желание свободы и избавление от авторитарного мучения, скажем так.
— Буду ли я прав, если назову тебя популярным драматургом?
— Если бы ты это сказал год назад, то, думаю, что был бы прав. Да, до 24 февраля 2022 года я был одним из самых востребованных молодых драматургов России. Но сейчас не понимаю, кто такой популярный российский драматург в России.
— Давай для наглядности назовем твое главное достижение.
— Пожалуй, самое респектабельное, — специальное упоминание национальной премии «Золотая маска» за «Республику», деколониальную пьесу о гражданской войне в Таджикистане, во многом основанная на опыте моей семьи. Все они — этнические русские. Кто-то из них был репрессирован, кто-то приехал в начале XX века, кто-то раскулачен, но так или иначе, все жили в Таджикистане. В пьесе «Республика» я рассказывал, как русские, которые были вынуждены бежать из Таджикистана (вообще-то со своей родины) в Россию, — страну, которую они себе придумали.
Они думали, что Россия — большая, добрая, сильная. А оказалось, что России они не нужны, Россия «своих» не защищает. Все эти слова были ложью.
— Ты говоришь об опыте семьи в Таджикистане, но Википедия утверждает, что ты из Тольятти.
— У меня и мама, и папа из Таджикистана. Просто я первый, кто родился в России. Моя мама только-только переехала.
— Получается, твои родители были беженцами?
— Формально статуса беженцев у них не было, но фактически так оно и было. Началась война — и все побежали. Неспокойно было еще в 1990-м году, потом было ни шатко-ни валко, не война и не мир. А в 1992 году началась полноценная гражданская война. И, естественно, все русские побежали, потому что это была деколониальная война. Моя мама что смогла, то и вывезла в Россию.
— Ты папу не упоминаешь. Где папа?
— Я его видел лишь однажды, когда мне было пять лет. Мы с ним никогда не жили, и воспоминание у меня с ним какое-то обрывочное — мы идем под ручку с горки. Больше я никак его не помню.
— Как твоя мама чувствует себя сейчас?
— Хорошо, к счастью.
У нас все другое мы сильные
мы не нуждаемся
у нас есть дастархан
дастархан — когда скатерть завалена лакомствами курпачи — наш матрас на балконе яростным летом деревня — это кишлак
А Памир — настоящие горы
не то что в России.
Она не любила русские блюда
и мы ели все с острыми специями кинзой жирной бараниной и зирой а остальное
казалось нам пресным.
Только это она любила
только об этом говорила
еда и сила
остальное она ненавидела.
(Из романа Сергея Давыдова «Спрингфилд»)
О драматургии и дебютном романе — Писал ли ты о квир-людях в своих пьесах?
— Были небольшие тексты. Например, в 2020 году был фестиваль «Точка доступа», и я написал для него пьесу под смешным названием «Порнооптимисты», — там было три новеллы, так или иначе касающихся сексуальности. И одна из этих новелл была про двух мальчишек, которые решили сбежать из дома и заразиться ковидом, чтобы просто оказаться в одной палате вместе. Один бежит от бати, который пиздит маму и его тоже, а другого мать бросила, уехала на юг и присылает ему несколько тысяч рублей в месяц. И они понимают, что им просто… это жизнь не жизнь, лучше уж вместе заболеть, как они думают, смертельной болезнью, чтобы полежать вместе в больнице. Это романтическая история, они пара.
И еще есть «Летсплей», подростковая пьеса, которой я очень горжусь. Это бодрый экшн про то, как подростки, по сути, спасают свой город от госкорпорации, которая решила устроить им катастрофу. Я люблю эту пьесу — она очень жизнеутверждающая.
И там есть пара суперагентов, Андрей и Винчестер, которые, собственно, и являются парой. Они, правда, пытаются это всячески скрыть и говорить типа: «Ой, знаешь, мы просто вместе снимаем жилье, мы просто вместе ходим в качалку». Но там настолько очевидны их разборки, что надо быть слепым, чтобы не понять.
— У тебя довольно много текстов для театра, почти два десятка, а тут всего-навсего два квир-кейса. Почему так мало?
— Да вот, знаешь, наверстываю теперь, целый роман написал.
— Логичен вопрос, принадлежишь ли ты сам к «радужному» сообществу.
— Да. Будем считать, что это мой официальный каминг-аут, уже окончательный. Да, принадлежу, я — гей.
— Тебе как драматургу твоя гомосексуальность не мешала?
— А каким образом она может мешать?
— Не было ли гомофобии, например?
— Мир театра, а особенно актуального театра, которым я всегда занимался, — мир абсолютно свободный. Например, фестиваль «Любимовка», одно из главных театральных событий для профессиональных драматургов, это вообще большой праздник любви и дружбы. У меня не было никаких проблем.
— То есть все знали, что ты гей, и никому это не мешало.
— Я не то, чтобы сильно это афишировал, но если ты дружишь, пьешь с людьми и так далее…
— …то все равно ты так или иначе делаешь каминг-аут. А может быть гомосексуальность плюсом в карьере драматурга?
— Нет, никакого «гей-лобби» не существует. Если бы оно было, я бы первым туда писал, отправлял резюме и мотивационные письма.
— До 24.02.22 ты был знаменитым молодым драматургом, а после у тебя кульбит — ты пытаешься заявить о себе в прозе.
Почему это произошло?
— Я вообще никогда не хотел писать прозу, мне это было совершенно неинтересно. Мне было интересно заниматься драматургией театра и кино, и еще немножко поэзией. Но так получилось, что я поступил в магистратуру Высшей школы экономики на «литературное мастерство», а там нужно было писать именно прозу как дипломную работу, как курсовые. Тогда у меня встал выбор. Мне нужно делать ту вещь, которую я не особо хочу, и если уж я трачу столько своих сил, значит, есть смысл написать о том, что для меня по-настоящему важно.
— Почему твой роман называется «Спрингфилд»?
— Ну, я точно не хотел называть роман вроде «Ебля горячих парней на заброшке-2» или что-то в этом духе. Называть претенциозно, типа «Степи», тоже было как-то не то. Я решил выбрать «Спрингфилд», потому что это один из центральных образов. «Спрингфилд» — только ты произносишь это слово — и у тебя уже рождается какая-то плюс-минус понятная картинка американского пригорода. Это то, что для себя конструируют мои герои для того, чтобы жизнь не казалась такой невыносимой, — они играют в эту игру.
— Образ лучшего мира?
— Да, такого немножко игрушечного. И в то же время spring field — это же весеннее поле. А в моем романе постоянно фигурируют степи, и там фигурирует юность, поэтому, мне кажется, «Спрингфилд» — идеально.
— Я постарше тебя, и у меня, человека 1990-х, «Спрингфилд» вызывает совершенно другие ассоциации. Это сигареты, которые я тогда курил.
— Если бы нашел сигареты «Спрингфилд», я бы обязательно их покурил.
— Я читал твой роман, мне он очень понравился. Давай в двух словах расскажем читателям, о чем он.
— Это роман про двух молодых парней, которые живут в депрессивном промышленном городе Тольятти и пытаются преодолеть это довременье и вырваться в лучшую жизнь, не имея абсолютно никаких ресурсов, кроме своей силы воли.
Вообще, это, конечно, книжка о любви к жизни. Так получилось, что я дописывал роман в 2022 году, уже понимая прекрасно, что у него нет шансов быть изданным. Мои герои существуют в 2021
году. Это время, когда очень многим казалось, что все самое лучшее впереди и, как бы сейчас плохо ни было, потом станет лучше. И получилось так, что в итоге эта книжка о поколении, которое просто скосили. Это книжка о памяти, о том, во что мы верили, о чем мы мечтали и что в итоге пошло крахом.
— В романе отлично придуман финальный финт, который резко меняет перспективу. Ты задумал его с самого начала?
— Я, как правило, где-то на середине текста понимаю, чем его закончу, а тут до самого последнего момента не понимал, чем текст заканчивать. Помню, концовку, она придумалась, наверное, где-то только на восьмой главе, где-то вот так, при том, что в романе десять глав, я подумал: «Блин, точно! Вот ровно то, что нужно».
Знаешь, у меня как автора есть способность, на которой я здорово выезжаю в драматургии, — я очень хорошо умею делать концовки.
Я считаю, если у тебя появилась концовка, если ты ее придумал, то это значит, что, по большому счету, все внутри твоего текста, так или иначе, работает, значит, главный конфликт разрешился, тема закончена.
— В твоем романе очень выверенный слог, — строка строга, упруга и звенит. Почему ты решил писать прозу ритмизированную, близкую к поэзии?
— Я не умею писать прозу, но умею писать поэзию, драматургию.
И я писал диалоги, выстраивал структуру как драматург, потому что это умею. А когда мне нужно было писать прозаические куски, то изначально писал их почти поэтически, близко к верлибру, а потом просто сбивал строку, дописывал связки. Таким образом получился густой текст.
— А какими фразами из «Спрингфилда» ты гордишься как автор?
— Мне очень, например, нравится момент в общественном туалете на площади Куйбышева, когда он сравнивается с мемориалом гомосексуалам, жертвам нацизма.
Я читал, что где-то в Берлине находится мемориал гомосексуалам — жертвам холокоста, и что это большой серый камень, в нем прорублено крохотное окошко, а внутри — черно-белый телевизор, который показывает двух целующихся мужчин. Они вечно целуются в этом маленьком черно-белом окошке, в этом большом сером камне, спрятанном от людей в большом парке. И если бы в России сделали мемориал гомосексуалам — жертвам репрессий, он находился бы тут — в подземном обоссанном туалете на площади Куйбышева, самой большой площади Европы, как говорят все экскурсоводы.
— В конце 2022 года ты просто взял и выложил свой роман в интернете в открытый доступ. Почему?
— Безысходность. Я понимал, что этот текст написал для людей. Я понимал, что людям он нужен, очень многим людям он нужен, потому что он мне бы был бы нужен в мое время. Некоторые мои друзья его почитали и сказали, что это хорошая литература. И я понимал, что двух этих обстоятельств достаточно, чтобы текст выложить в открытый доступ. Я тогда написал на Фейсбуке, что закрою доступ в день принятия «закона об ЛГБТ». Я так и сделал. И
так получилось, что роман пошел по рукам, зажил своей жизнью.
— Ты пишешь роман о геях. Его главный рассказчик, лирический герой — это гомосексуальный парень в современной провинции. Не было ли у тебя опасений, что это навесят на тебя ярлык гей-автора, что это как-то ограничит тебя в творчестве?
— Нет, я делал ровно то, что читал правильным по своим этическим и эстетическим соображениям. Я в этом смысле человек идеи. Текст нужен людям, и, значит, я должен делать так, чтобы он стал доступен. Моя работа должна быть замеченной, она должна существовать. Текст должен дойти до адресата. А что будет дальше? Черт его знает. Я тогда думал, что нет будущего.
— Какой была реакция на ту первую публикацию?
— Мне как-то внезапно стало писать много людей, что им очень понравилось. Не было ни одного оскорбления, ни одной угрозы.
Даже удивительно, потому что я сталкивался с таким, когда мы делали спектакли, когда я писал пьесы: были и с губернаторами конфликты, и какие-то зрители писали жалобы или гадости в личку.
Но здесь не было ничего подобного. Видимо, роман пошел по тем людям, которым он нужен. Он не попал к ненужным.
— Чем отличается тот твой текст от того, который вышел книгой сейчас, вне России, в издательстве Freedom Letters?
— Ничем по сути. Мой агент в Париже предлагала поработать над редактурой, но в итоге роман вышел примерно в таком же виде.
Единственное, в одном месте прозу я заменил на верлибр.
— А ты не думаешь написать продолжение?
— Нет, у меня нет абсолютно никаких планов ни на эту тему, ни на романистику в принципе. Никакого дикого вдохновения у меня не возникало и не возникает. Больше всего я хотел бы заниматься драматургией, иногда заниматься преподаванием и поэтическим письмом. Но если возникнет желание написать роман, я его напишу.
О гомофобии в школе, о маме, о честности с друзьями
— В какой степени «Спрингфилд» — автобиографическая история?
— Какие-то факты из моей биографии там присутствуют. В Андрее очень много меня — по характеру, по фактам биографии, но, по большей части, конечно, там, фикшен.
— У героя романа очень драматичный каминг-аут, а как было в твоем случае?
— Это как раз тот момент, который правдив. В моей реальной жизни было ровно так, как в романе. Я сделал хорошую презентацию на каком-то там предмете, и у меня одноклассники попросили флешку с презентацией. Я дал и забыл, что у меня там свежая пачка порно, чтобы на моем компьютере ничего не было.
Спохватился, стал вырывать флешку, но что-то они увидели. Это был один из самых страшных дней в моей школе. Вообще моя школьная жизнь, в принципе, была довольно страшная, но это был один из самых страшных дней. Мне казалось, что я просто не доживу. Я мужественно просидел урока три, а потом все-таки свалил со школы.
— Сколько тебе было лет?
— По-моему, 14.
— И как сказалась та роковая флешка сказалась на твоей последующей школьной жизни?
— У меня с классом всегда были очень плохие отношения. Я дрался, пытался сопротивляться, но когда против тебя 29 человек — семь-восемь активных, а остальные пассивные наблюдатели, ты никак не вырулить эту ситуацию. А я все ухудшал еще и тем, что не мог пойти на компромисс. Ну, типа, не мог смириться с ролью забитыша, которую мне пытаются отвести.
Это был полный набор: постоянные драки, кто-то пытается обидеть, портфель выбрасывают в окно с третьего этажа. Меня при этом ужасно бесило, что вот, допустим, заходит учительница, говорит «доставай тетрадь». При этом она видит, что мой портфель выкинули. Учителя все знают, все видят, но не вмешиваются в это, потому что им просто не нужны проблемы, им удобно такое политическое расположение сил, им удобно это.
— Одно дело, когда класс не любит принципиального мальчика, другое дело, когда одноклассники узнают, что он гей. Как было в твоем случае?
— Стало еще адовее. Не знаю, связано ли это как-то, но, например, совершенно не было мыслей, что у меня может быть какая-то романтическая жизнь. Я совершенно не мыслил себя как объект любви. Лет до двадцати, наверное, я вообще не видел то, что кто-то мне оказывает какие-то знаки внимания.
— Сколько времени у тебя ушло на понимание, что ты вообще-то классный парень и можешь быть объектом эротического интереса?
— У меня, честно говоря, до сих пор с этим проблемы. Ну, то есть с этим, — с любовью.
— Позволю себе прямой вопрос, а парень у тебя сейчас есть?
— Сейчас нет, но парни были.
— Ты в процессе. Накапливаешь позитивный опыт.
— Я пытаюсь быть нормальным. Я хочу стать нормальным мальчиком.
— Когда о твоей гомосексуальности узнала мама?
— Мне было 16 лет. Я сказал — и уехал из своего родного Тольятти.
Поступил в универ и пытался как можно меньше общаться с матерью.
— И как она восприняла весть, что ее единственный сын — гей?
— Как абсолютную трагедию, конечно. Несколько месяцев мы пытались про это не говорить, но тема все равно всплывала. Моя мама всегда жила культом силы, она к этому привыкла, ей нужно было выжить в своей дисфункциональной семье, ей нужно было выжить в Советском Союзе. Потом ей нужно было выжить в новой стране, все начать с нуля и так далее. Вся ее жизнь была построена на культе силы. И ей казалось, что гомосексуальность ребенка — либо ее воспитательная ошибка, либо моя дурость. Но в любом случае то, что нужно жестко сломать и изменить, потому что это небезопасно для ребенка. Она искала какие-то рычаги давления на меня, но в итоге ничего не получилось. Я слишком вредный для этого.
— А почему тебе было важно сказать о своей гомосексуальности маме?
— Потому что я ложь не люблю. Это не моя судьба, не мой путь. И
я решил сыграть с нулевой суммой. В принципе, я и так многого от жизни не ждал, ничего мне счастливого жизнь не предлагала. Я
понимал, если сейчас скажу правду, то мне на самом-то деле хуже не станет. Ну что она сделает? Денег мне не будет давать? Она мне их и так не дает. Лишит меня своей любви? Довольно дорого обходится такая любовь. Знаешь, когда тебе, с одной стороны, говорят «ты у меня такой хороший, ты у меня такой замечательный, давай, только теперь ты будешь на меня работать бесплатно, ты никуда не поедешь и будешь играть полностью по моим правилам»… Короче говоря, станешь просто моим продолжением. И тогда, может быть, я буду тебя любить. Зачем мне нужна такая любовь? И я решил, что она мне нафиг не нужна — я выбираю правду.
— Как и когда вам все-таки удалось найти общий язык?
— В здоровых отношениях мы, пожалуй, только в последние года три. Думаю, моя мама поняла, что она не вечна, она стареет. У нее есть единственный сын. Она никогда не понимала, чем я занимаюсь. Я совершенно не оправдывал ее ожидания и не разделял ее ценности, но она поняла, что, в общем-то, сын-то не дурак, если занимается какой-то фигней и при этом зарабатывает деньги. Но и я тоже прекрасно понимаю, что мать у меня одна. В
любом случае я должен пытаться сохранять отношения.
— А в университете в Самаре ты уже был открыт как гей?
— Это произошло похожим образом, как и в «Спрингфилде». Я нашел компанию неформалов. Кто-то из них занимался искусством, играл в группах, чего-то рисовал. И когда я туда попал, то сперва сказал робко одному другу, потом подруге, — и везде было все о'кей. Это было о'кей и для скинхедов каких-нибудь (мне говорили, если тебя будет кто-то обижать, то приедет «фирма»), и для девочек-анимешниц было нормально. Это было чудо. Более того, у меня появился нулевой парень.
— Какой?
— Это была странная история. Был один чувак, один из главных красавчиков в нескольких тусовках, а параллельно дилер (он торговал наркотиками и сам «торчал»). Получалось так, что он находил себе каких-то новых девушек, а меня брал третьим — типа как лучшего друга. И мы идем курить, сами сосемся где-нибудь за углом, потом возвращаемся к ней и дальше сидим, разговариваем.
В общем, это была очень странная история. Я больше никогда в такое не попадал, но когда тебе 18 лет, то многое, в принципе, прощается.
«Мы — пестрое племя деклассированных и как бы безродных, изгнанных официальной культурой. Слушаем Metallica и „Пошлую Молли», старых русских панков и Machine Gun Kelly, трясем головы под Burzum и по пьяни воем Максим. Мы ностальгируем то ли по нулевым, то ли по девяностым, потому что в настоящем — огромное здание ФСБ».
Об отъезде, о России, о будущем — Сейчас мы разговариваем с тобой по видеосвязи. Ты находишься на одном конце Германии, я на другом. Как твоя мама отнеслась к твоему решению покинуть Россию?
— Сперва у нее случился инфаркт. Только я сказал ей по телефону, что купил билеты, — и она сразу упала на пол. Билеты мои в итоге сгорели, я поехал к ней. Но прошло время, и самоуспокоение, что это ненадолго, перестало действовать. Я понимал, что можно как-то скрываться и потихонечку умирать в России, но мне было принципиально важно продолжать свою работу. Мы с мамой много разговаривали, и в итоге она поддержала мое решение. После Нового года, в январе я приехал в Германию.
— В отличие от тебя, у твоей мамы был опыт беженства. Дала ли она тебе какие-то советы? Какое напутствие она дала сыну?
— Она говорила мне: «ты нигде никому не нужен». Это то, с чем она сама столкнулась. В России были свои голодные и нищие, и голодных и нищих из республик никто не ждал. Но для меня это, конечно же, не совет. Ну, что значит «ты никому не нужен»? А в России ты кому нужен? Если говорить про меня и людей типа меня, мы в России тоже не нужны. Поэтому у меня совершенно нет на этой почве какой-то драмы. Я прекрасно понимаю, что, в общем-то, никто тебе ничего не должен, никому ты особо и не нужен, ты нужен себе и своей маме, и, может быть, своим друзьям.
У меня никогда не было надежды, что кто-то будет мне помогать, меня так воспитывали. Поэтому, в принципе, для меня здесь, в Германии, нет стресса какой-то отверженности и брошенности. У меня есть много других стрессов, их очень много, особенно когда ты переживаешь вынужденную эмиграцию во время войны, но стресса от отверженности и брошенности у меня точно нет.
Спасибо маме, что она меня так воспитала.
— Каков твой статус в Германии?
— У меня вид на жительство, я не беженец. Я приехал, по сути, как политический эмигрант. На этом основании я нахожусь в Германии.
— Мир большой, почему ты выбрал именно Германию?
— Германия согласилась меня принять. То есть я написал в консульство, пообщался, и Германия согласилась дать мне вид на жительство. Просто так вышло. Первым моим вариантом был Узбекистан, сначала я хотел уехать туда, но с мамой случилась беда и я был вынужден остаться в России. Потом возникла ситуация, что у меня не было совершенно никаких денег, и я не понимал, откуда их брать. Мне никто не помогает финансово.
Какое-то время я оставался в России. И, честно говоря, я совершенно не хотел покидать Россию.
— Изменилось ли твое восприятие России после отъезда?
— Мне ужасно ее жалко. Мне ужасно жалко всех моих друзей и всех моих знакомых, которые остаются в России по тем или иным причинам и не могут соскочить с этого поезда. В своей драматической поэме «Граница» я пишу, что все равно некуда от этого деться, где бы ты ни находился, в России или за ее пределами. Я не отделяю себя от России. Эта трагедия будет идти со мной и со многими другими людьми, которые находятся за пределами России. Я испытывал ужас в 2022 году, я продолжаю испытывать ужас в 2023-м, но только на определенной дистанции.
— Что должно произойти в России, чтобы ты вернулся?
— Должна закончиться война. Все люди, которые хотя бы просто сказали о том, что не поддерживают войну, автоматически находятся под статьей. Не имеет смысла возвращаться, пока эти законы действуют.
— «Спрингфилд» можно назвать твоим каминг-аутом как квир-человека, как квир-автора. Означает ли это, что в твоих следующих текстах будет больше ЛГБТ-проблематики?
— Да, это будет. Но, скажем так, я не собираюсь быть исключительно квир-автором.
— Речь не о том, что ты уходишь в гетто. Квир, как мы с тобой понимаем, это часть мира, одна из красок палитры жизни. Эта краска будет ощутимее?
— Да, она будет ощутимее по той причине, что российское правительство помешалось на несчастных геях, лесбиянках, трансгендерах и бисексуалах. Кто-то должен их защищать и говорить от их лица. Значит, будет.
— Скажи, а твоя мама читала «Спрингфилд»?
— Целиком нет, потому что у нас у обоих есть какое-то взаимные опасения.
— Какого рода опасения?
— Ну, я не готов переживать. Это еще такой как бы кризис. Нет.
— А давай выставим оценки твоей нынешней жизни по пятибалльной шкале. Комфорт материальный?
— Троечка.
— Удовлетворительно.
— Троечка из пяти, да.
— Комфорт душевный?
— Четверочка.
— А в прошлом году сколько было?
— Ноль.
— А до вторжения российских войск в Украину?
— По-разному. Я человек с циклотимическим расстройством, у меня то так, то сяк.
— Свобода?
— Сейчас, думаю, четыре.
— Ее стало больше?
— Да, ее стало намного больше.
— А ты как автор чувствуешь какие-то новые возможности в связи с новой свободой?
— Независимо от обстоятельств я, плюс-минус, всегда делаю то, что считаю нужным и во что верю. Поэтому здесь моя стратегия не меняется.
— Профессия? По пятибалльной шкале.
— Не могу ответить, честно говоря. Хотя мои пьесы показывают в разных городах мира, я, тем не менее, не работаю на проектах как драматург, сейчас не пишу на заказ. Поэтому не знаю, как оценивать. А себя как прозаика, как автора романа… Все очень здорово происходит, но я еще не очень понимаю, не могу оценивать. Ну, давай четыре с плюсом.
— А своему будущему, каким ты его себе представляешь, какую бы оценку выставил?
— Думаю, троечку.
— Удовлетворительно? Немного. А почему?
— Я пока не придумал, как убедить себя в том, что я точно понимаю, что все будет намного лучше, чем могло бы быть. За стремление к лучшему я ставлю себе пять, но за то, как это будет реализовано, я отвечать не могу. Ну, хорошо, давай, будет четыре с минусом, окей?
— Как я понимаю, сейчас ты счастливее, чем год назад. Да?
— Я хочу жить. Поэтому определенно да.
«Мы шли ко мне домой по теплому ночному городу, взяли в круглосуточном по полторашке „Балтики», пили и болтали. Мы решили, что на первый московский Новый год должны нарядиться в костюмы Екатерины Шульман и Альбины Сексовой, чтобы целоваться в таком виде под бой курантов и показывать фак телевизору. Ум и сердце прекрасной России будущего должны слиться в магический час. Этот перформанс мог бы назваться „Господи, помоги мне дожить до лучших времен«. Или как-то так. Если бы я умел рисовать, я бы точно нарисовал такую картинку».




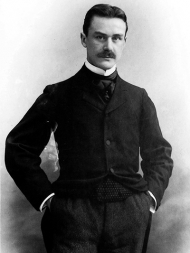
7 комментариев