Жан Жене
Богоматерь цветов
Первый роман Жана Жене, который принес автору всемирную известность. Герои, обитатели низов парижского общества, имеют реальных прототипов. Роман раскрывает историю жизни Дивины, трансвестита-проститутки, который в начале романа умирает от туберкулёза и в конечном итоге причисляется к святым.
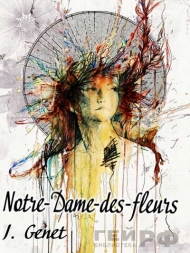
Без Мориса Пилоржа, чья смерть навсегда
отравила мою жизнь, я бы никогда не написал эту книгу.
Она посвящается его памяти.
Ж.Ж.
Вейдманн появился в пятичасовом выпуске: голова в белых бинтах, словно монахиня или раненый летчик, упавший на поле ржи сентябрьским днем, похожим на тот, когда возвещено было имя Нотр-Дам-де-Флер [1]. Изображение его прекрасного лица, размноженное газетами, обрушилось на Париж и на всю Францию, на самые отдаленные деревушки, на хижины и на замки; и буржуа с тоской осознали, что в их повседневную жизнь проникли обольстительные убийцы: тайком они прокрались в их сны и собираются их нарушить, прокрались по черной лестнице; а она, их сообщница, даже не скрипнула. Под его портретом сияли его преступления: убийство No 1, убийство No 2, убийство No 3, и так - до шести, они говорили о его тайном величии и предсказывали будущую славу.
Чуть раньше негр по имени Солнечный Ангел убил свою любовницу.
Чуть позже рядовой Морис Пилорж прикончил своего любовника Эскудеро, чтобы украсть у него всего-то тысячу франков; потом, в день двадцатилетия, ему отрубили голову; помните, он тогда украдкой сделал нос разъяренному палачу.
Наконец, лейтенант с военного корабля, совсем мальчишка, предал только ради того, чтобы предать, и его расстреляли.
В честь их преступлений я и пишу свою книгу.
То, как чудесно распускались эти прекрасные и мрачные цветы, мне было дано узнать не сразу: об одном я прочел на обрывке газеты, о другом мимоходом обмолвился мой адвокат, третий был рассказан, почти пропет, арестантами, - их пение, кажущееся фантастическим, заупокойным (словно De Profundis), как жалобные песни, которые они поют по вечерам, пронизывая камеры, доходит до меня прерывистым, искаженным, исполненным отчаяния. В конце фраз голос срывается, и это придает ему такую сладость, что, кажется, ему вторят сами ангелы, и оттого я испытываю ужас: ангелы внушают мне ужас, когда я представляю их - ни духа, ни плоти, белые, невесомые и пугающие, как полупрозрачные фигуры призраков.
Эти убийцы, теперь уже мертвые, тем не менее приходят ко мне, и всякий раз, когда одна из этих скорбных звезд падает в моей камере, сердце мое бьется, сердце колотится, его стук - точно барабанная дробь, возвещающая о сдаче города. За этим следует возбуждение, подобное тому, которое скрутило меня и оставило на несколько минут нелепо скрюченным, когда я услышал гул пролетающего над тюрьмой немецкого самолета и разрыв брошенной поблизости бомбы. На мгновение я увидел одинокого ребенка, несущегося в своей железной птице, смеясь и сея смерть. Ради него одного все это неистовство сирен и колоколов, 101 орудийный залп на площади Дофин, вопли ненависти и страха. Все камеры задрожали, затрепетали, обезумев от ужаса, заключенные колотили в двери, катались по полу, вопили, рыдали, проклинали и молили Бога. Повторяю, я увидел, или думал, что вижу, восемнадцатилетнего ребенка в самолете, и со дна своей 426-й камеры я улыбнулся ему с любовью.
Я не знаю, им ли на самом деле принадлежат те лица, что забрызгали собой, словно жемчужной грязью, стену моей камеры, но не случайно же я вырезал из журналов именно эти прекрасные головы с пустыми глазами. Я говорю: пустыми, потому что все они светлые и, должно быть, небесно-голубые, похожие на стальную нить, к которой подвешена светящаяся прозрачная звезда, голубые и пустые, как окна недостроенных домов, сквозь которые в окна противоположной стены можно увидеть небо. Как солдатские казармы, открытые по утрам всем ветрам, кажутся пустыми и чистыми, хотя на самом деле населены опасными самцами, развалившимися как попало на своих койках. Я говорю: пустыми, но если они закроют веки, то их вид будет тревожить меня еще больше; как тревожат девушку зарешеченные окна огромной тюрьмы, мимо которой она идет; за ними спит, грезит, бранится и брызжет слюной племя убийц, превращающих каждую камеру в гнездо шипящих змей, но вместе с тем и во что-то вроде исповедальни с пыльными саржевыми занавесками. В этих глазах, на первый взгляд, нет ничего мистического, таинственного, как в некоторых старинных крепостях - Лионе или Цюрихе, - но они гипнотизируют меня так же, как пустые театры, заброшенные тюрьмы, выключенные механизмы и пустыни, ибо пустыни сродни крепостям, они закрыты и не сообщаются с бесконечностью. Люди с такими лицами вызывают у меня ужас, когда я на ощупь пробираюсь между ними но зато - что за чудесная неожиданность, когда в их лабиринте, за поворотом, к которому приближаюсь с замирающим сердцем, я не нахожу ничего, кроме вздыбленной пустоты, осязаемой и надменной, как прикосновение монаршей руки. Как я уже сказал, я не уверен, что именно эти головы принадлежат моим гильотинированным друзьям, но, по явным признакам, я понял: они, висящие на стене, гибкие как ремешки хлыста, и твердые как стеклянный нож, ученые, как дети, играющие в доктора, и свежие, как незабудки, - избраны стать вместилищем чудовищных душ. Газеты редко доходят до моей камеры, и с самых красивых страниц, как в майских садах, обычно уже оборваны самые красивые цветы - это парни-"коты". "Коты" [2] непреклонные, строгие, с расцветшими членами, так что я уже перестаю понимать, лилии они или члены, или лилии и члены - не совсем они, до такой степени, что вечером, стоя на коленях, я мысленно обнимаю руками их ноги: их твердость поражает меня, и я начинаю путать их, и воспоминание, которое я отдаю в жертву моим ночам, это воспоминание о тебе, лежащем неподвижно, пока я ласкал тебя; и только твой обнаженный и подрагивающий член врывался в мой рот с неожиданным остервенением бродяги, пронзающего шляпной булавкой чернильную каплю у себя на груди. Ты не шевелился, не спал, не грезил, ты был где-то далеко, неподвижный и бледный, застывший, напряженно вытянувшийся на плоскости кровати, как гроб на поверхности моря, и я не сомневался в нашей целомудренности, когда чувствовал, как ты несколькими толчками изливаешься в меня белой теплотой. Возможно, ты играл в наслаждение. В этот момент тихий экстаз навещал тебя, и вокруг твоего блаженствующего тела возникало невероятное сияние, подобное мантии, из которой высовывались твои голова и ноги.
Короче, мне удалось собрать десятка два фотографий, и я приклеил их разжеванным хлебным мякишем к оборотной стороне картонного распорядка дня, висящего на стене. А некоторые я приколол кусочками латунной проволоки, которую приносит мастер, чтобы я нанизывал на разноцветные стеклянные бусинки.
Из этих бусинок другие заключенные делают похоронные венки, а я смастерил из них рамки в форме звезды для тех, кто наверняка были настоящими преступниками. По вечерам, так же, как вы открываете окно на улицу, так я переворачиваю распорядок дня оборотной стороной к себе. Улыбки и недовольные гримасы неумолимо проникают в меня через все подставляемые мною отверстия, их энергия наполняет и поднимает меня. Я живу в их водовороте. Они определяют мои привычки, которые вместе с ними служат мне и семьей к единственными друзьями.
Возможно, среди этих двадцати заблудился кто-нибудь, кто ничем не заслужил тюрьмы: какой-нибудь спортсмен, чемпион. Но если уж я его пригвоздил к моей стене, значит, все-таки я заметил у него где-нибудь в уголке рта или в прищуре глаз дьявольский знак монстра. Какой-то изъян в их лицо или в запечатленном жесте подсказывает мне, что для них не невозможно меня полюбить, потому что они любят меня, только если они - монстры; можно даже сказать, что этот случайно затерявшийся сам сделал выбор и оказался здесь. В качестве свиты и придворных с обложек разных приключенческих романов я подобрал им молодого метиса мексиканца, гаучо, кавказца, а со страниц книжек, которые передаются из рук в руки на прогулках, - несколько неумелых рисунков на полях: профили сутенеров и бандитов с дымящимися сигаретами в зубах, или силуэт какого-нибудь типа с торчащим членом.
По ночам я люблю их, и моя любовь вселяет в них жизнь. Днем я занят своими мелкими заботами. Я - словно хозяйка, которая следит, чтобы хлебная крошка или перышко пепла не упали на паркет. Но уж ночью! Страх перед надзирателем, который вдруг может включить свет и заглянуть в глазок, вынуждает меня соблюдать гнусные предосторожности; я боюсь выдать себя даже шуршанием простыни, но мои жесты, проигрывая по части благородства, становясь тайными, лишь усиливают наслаждение. Я словно плыву. Под простыней моя правая рука нежно скользит, по несуществующему лицу, а затем и по всему телу преступника, которого я избрал, чтобы он разделил сегодня со мной мое счастье. Кисть левой руки замыкает пальцы на несуществующем органе, который сперва сопротивляется, а потом сдается, раскрывается, и сильное мощное тело выдвигается из стены, приближается, падает и размазывает меня по тюфяку, на котором остались пятна от более чем сотни заключенных; я же тем временем грежу о счастье, в которое погружаюсь, и что мне до Господа Бога и его ангелов!
Никто не может сказать, выйду ли я отсюда, и если выйду, то когда.
С помощью моих неизвестных любовников я и напишу эту историю. Вот они, мои герои, приколоты к стене, мы вместе здесь, за решеткой. По мере тог как вы будете читать эту книгу, ее персонажи, сама Дивина [3], и Кюлафруа, будут падать с тюремной стены на страницы, удобряя мое повествование подобно мертвым листьям. Нужно ли мне рассказывать об их смерти? Все воспримут ее как смерть того, кто, услышав на суде свой приговор, произнес с прирейнским акцентом: "Я уже прошел через это" (Вейдманн).
Может случиться, что эта история не во всем покажется вымышленной, и в ней, вопреки моим намерениям, послышится голос крови: это когда ночи я буду биться головой о какую-нибудь дверь, высвобождая мучительные воспоминания, которые преследуют меня с рождения мира; простите мне это. Моя книга претендует лишь на то, чтобы быть частичкой моей внутренней жизни.
Порой надзиратель в мягких тапочках бросает мне приветствие через окошечко камеры. Он заговаривает со мной и, сам того не желая, подробно рассказывает о моих соседях: мошенниках, поджигателях, фальшивомонетчиках, убийцах, малолетних преступниках, которые катаются по полу с криками: "Мамочка, помоги!" Хлопает, закрываясь окошечко, и я остаюсь один на один с этими милыми господами, которые проскользнули ко мне и которых тепло постели, утренний покой заставляет корчиться, пытаясь ухватить конец нити и распутать клубок ухищрений, связей, жестоких и хитроумных орудий, с помощью которых, помимо всего прочего несколько розоволицых девочек превратились белых покойниц. Их головы и ноги я тоже хочу перемешать с моими друзьями на стене, они войдут историю о ребенке. А историю о Дивине я переделаю на свой вкус, чтобы наполнить камеру волшебными чарами (я хочу сказать, что благодаря этой истории моя камера будет зачарована). Я напишу историю Дивины, о которой знаю так мало, историю Нотр-Дам-де-Флер, и, уж не сомневайтесь, свою собственную историю. Приметы Нотр-Дам-де-Флер: рост 171 см, вес 71 кг, лицо овальное, волосы светлые, кожа гладкая, зубы ровные, нос прямой.
Дивина умерла вчера посреди лужи крови, исторгнутой ею из собственной груди, она испустила дух, в последнем заблуждении приняв эту кровь за воплощение той самой черной пустоты, на которую с трагической настойчивостью указывала разбитая скрипка, увиденная у следователя в груде вещественных доказательств; так Иисус показывал на свою золотистую язву, в глубине которой билось Его огненное Святое сердце. Это - божественная суть ее смерти. Другая - наша - явилась в потоках крови, залившей ее ночную рубашку и простыни (безжалостное разящее солнце улеглось на окровавленных простынях ее постели), приравняв ее смерть к убийству.
Дивина умерла святой, и ее убили - убила чахотка.
Наступил январь, и мы, в тюрьме, сегодня утром на прогулке, тайком, скромно, желаем друг другу счастья в Новом году, как, наверное, делает, приходя на работу, прислуга. В качестве новогодних подарков старший надзиратель раздал нам по маленькому пакетику крупной соли. Три часа дня. За решетками со вчерашнего дня идет дождь, дует ветер. Как на дно океана, я опускаюсь в глубину мрачного квартала, застроенного тяжелыми и непроницаемыми для обычного взгляда домами, которые, однако, довольно легки для внутреннего взгляда воспоминаний, ведь воспоминания состоят пористого вещества. В мансарде одного из этих домов и жила долгое время Дивина. Огромное окно зачарованно смотрит на маленькое Монмартрское кладбище. Лестница, ведущая в мансарду, играя сегодня значительную роль. Она извилиста, словно коридор пирамиды, ведущий к входу в гробницу, в которую на время превратилось жилище Дивины. Подземный ход поднимается, напоминая чистотой своих изгибов мраморную руку велосипедиста смутно белеющую во мраке. С улицы лестница ведет к смерти. Доходит до последней часовни. Здесь уже пахнет разлагающимися цветами, восковыми свечами и ладаном. Лестница поднимается во тьму. С каждой ступенью она истончается и тает, сливаясь с синевой. Это лестничная площадка перед дверью Дивины. А в это время на улице в черном ореоле маленьких плоских зонтиков, держа их, как букеты цветов, стоят Мимоза Первая, Мимоза Вторая, Мимоза Полу-Четвертая, Первое Причастие, Анжела, Монсеньор, Кастаньета, Регина, словом, целая толпа. Можно было продолжить этот длинный и скучный перечень существ с громкими именами, которые ждут, сжимая в другой руке, как зонтики, букетики фиалок; существ, погрузившихся в грезы, из которых кто-то из них, скажем, Первое Причастие, выйдет оглушенная и потрясенная красотой похоронной церемонии. Ведь память ее хранит благоуханные и волнующие, как пение, доносящиеся с того света строчки сообщения в вечерней газете: "На усыпанном пармскими фиалками черном ковре отеля "Крийон" стоял украшенный серебром гроб черного дерева с покоящимся в нем набальзамированным телом принцессы Монако. Первое Причастие была нежным созданием. На манер английских леди она вытянула подбородок, потом подобрала его и завернулась в складки прекрасной истории, порожденной ее мечтами, где все события ее тусклой жизни приобретали значительность, а сама она была мертвой принцессой.
Дождь способствовал ее бегству.
На головах педерастов-девочек были короны из стекляруса, точно такие же я делаю в своей камере, они приносят с собой запах мокрой пены и воспоминания о белых надгробиях кладбища в моей деревне, о следах слизи, оставленных на камнях улитками и слизняками.
Итак, педерасты собрались внизу у лестницы. Они прижались друг к дружке и неумолчно болтают, щебечут; девочки окружили великолепных, прямых, молчаливых и неподвижных, как ветви дерева, мальчиков. Все в черном: брюки, куртки, пальто, но их лица, молодые и старые, гладкие и морщинистые, словно гербы, разделены на цветные квадраты. Идет дождь. С шумом дождя смешивается:
- Бедняжка Дивина!
- Ты только подумай, милая! В ее возрасте это было неизбежно.
- Она ведь уже не зарабатывала, как прежде!
- Миньон [4] не пришел?
- Тихо вы!
- Нет, вы на нее посмотрите.
Дивина, не любившая, чтобы кто-то ходил над ее головой, жила на последнем этаже солидного дома в приличном квартале. У его подъезда и топталась вся эта шушукающая компания. С минуты на минуту катафалк, запряженный скорее всего черной лошадью, прибудет, чтобы отвезти останки Дивины в церковь, а затем - сюда, совсем рядом, на маленькое Монмартрское кладбище, куда ведет улица Рашель. Проследовал Всевышний с видом "кота". Болтовня стихла. С непокрытой головой и очень элегантный, непринужденной изящной походкой приближался улыбающийся Миньон-Маленькая Ножка. При всей изящности в его поступи были какая-то тяжелая величественность, как у варвара, который вышагивает по грязи в дорогих сапогах на меху. Верхняя часть его тела сидела на нижней, как король на троне. Стоит мне представить его, как ту же моя левая рука лезет через прореху в кармане. И воспоминание о Миньоне не отступит, пока я не закончу свое дело. Однажды дверь моей камеры отворилась, и явился он. На мгновение он показало мне таким же торжественным, как сама смерть выходящая из оправы невероятно толстых тюремных стен. А вид у него был такой, будто он лежал голый в поле гвоздик. Уже в следующую же секунду всецело отдался ему, и словно через рот (не помню кому принадлежат эти слова) он заполнил меня до самого сердца. Заполнил настолько, что вытеснил меня самого, и теперь я сливаюсь с гангстерами налетчиками или "котами", и полиция по ошибке задерживает меня. В течение трех месяцев он наслаждался моим телом, истязая меня как только мог. Я валялся у него в ногах, а он топтал меня, как половую тряпку. Потом он освободился и вернулся к воровству, я же не могу забыть его, его жесты, он весь проявляется в них, как в гранях стекла, его жесты всегда казались непредсказуемыми, их невозможно было представить следствием долгих раздумий. Увы, от него, осязаемого, мне остался лишь гипсовый слепок с его гигантского вставшего члена, слепок, сделанный самой Дивиной. Больше всего меня поражали крепость, а значит - красота его пениса, от ануса до самой головки.
Я бы сказал еще, что у него были кружевные пальцы, и при каждом пробуждении его протянутые руки раскрывались, чтобы принять в себя Мир, это придавало ему вид Младенца Иисуса, лежащего в яслях (пятка одной ноги на щиколотке другой), но его внимательное лицо было обращено к небу изнанкой. А стоя, он походил на Нижинского [5] на старых фотографиях, где тот снят в одеянии из лепестков роз с руками, привычно сложенными корзинкой. Его гибкое, как у скрипача, запястье изящно изогнулось. А иногда он вдруг сам себя душит трепетной, как у трагической актрисы, рукой..
Это почти точный портрет Миньона, ведь он - мы это еще увидим - был гением жеста, одно воспоминание о котором возбуждает меня так, что я уже не в силах остановиться, пока моя рука не склеится от выпущенного на свободу наслаждения. Он вошел к смерти, ступая по прозрачному воздуху. Его еще называли греком или шулером; когда он проходил мимо, все гомики, и Монсеньер, и Кастаньета и все Мимозы, незаметно сделали грудью винтообразное движение, и им показалось, что своими телами они, как вьюнки, оплели этого красавца. Безразличный и блестящий, как сталь ножа, которым забивают скот, он прошел, расколов их на две части, которые вновь бесшумно соединились, распространяя легкий запах отчаяния, который ни с чем не спутаешь. Миньон поднялся по лестнице, шагая через ступеньку, широко и уверено, так что казалось, что, достигнув крыши, он не остановится и уйдет дальше по ступенькам голубого воздуха, в небо. В мансарде, ставшей менее таинственной после того, как смерть превратила ее в склеп (она утратила свою двусмысленность, вернув себе вместе с чистотой вид беспричинной бессвязности, который придавали ей эти удивительные похоронные предметы: белые перчатки, фонарь, артиллерийская куртка и, наконец, все то, о чем мы упомянем ниже), находилась лишь мать Дивины, Эрнестина, вздыхающая под траурной вуалью. Она уже старая. Но она наконец-то получила эту замечательную возможность, которою так долго ждала. Смерть Дивины позволит ей, через внешние проявления отчаяния, через видимый траур слез., цветов и крепа, освободиться от сотен ролей которые ей приходилось играть. Во время болезни, я сейчас расскажу о ней, - когда Дивина-трюкачка была еще всего лишь деревенским мальчишкой звалась Луи Кюлафруа, удача ускользнула из рук Эрнестины. Со своей постели больной видел комнату, где ангел (опять это слово волнует, влечет и в то же время отталкивает меня. Крылья у ни есть, а вот есть ли у них зубы? Неужели с помощью этих тяжелых, покрытых перьями крыльев, "этих мистических крыльев", они и летают? А их чудесное ангельское имя: они меняют его, если падают?, где ангел, солдат в голубой форме и негр (ведь мои книги всегда будут лишь поводом изобразить солдата в голубом, ангела и негра, играющих, словно братья в кости или в бабки в темной или светлой тюремной камере) составляли некое тайное сообщество, не-которого сам он был исключен. Ангел, негр и солдат поочередно принимали облик его школьных друзей, крестьян, но никогда - змеелова Альберто. Это его поджидал Кюлафруа в пустыне, чтобы ртом утолить свою знойную жажду звездной плоти. Чтобы утешиться, он, несмотря на свой возраст, пытался найти счастье там, где не было ничего приятного: в поле, чистом, пустынном и унылом, в поле песка или лазури, в магнитном поле, немом и безжизненном, где не осталось ни нежности, ни цвета, ни звуков. Уже много раньше появление на деревенской дороге невесты в черном платье, но в белой фате, сверкающей, как молодой пастух, засыпанный снегом, или как запудренный мукой светловолосый мельник, или как Нотр-Дам-де-Флер, которого он узнает позже и которого я сам увидел в своей камере как-то утром у отхожего места - с сонным лицом, розовым под мыльной пеной, и всклокоченными волосами - раздваивая его представление о мире, открыло Кюлафруа, что поэзия - это не мелодия сладких извивов, потому что фата падала складками резкими, четкими, строгими и ледяными. Это было предостережением. Он ждал Альберто, а тот все не шел. Но в каждом входящем крестьянине или крестьянке ему виделись черты змеелова. Они были как бы его вестниками, посланцами, предтечами, несли впереди него часть его даров, подготавливая его приход, протаптывая ему дорогу. Они возглашали аллилуйя. У одного была походка Альберто, у других - его жесты, или цвет и вельвет его брюк, или его голос; и Кюлафруа, как человек, который очень чего-то ждет, не сомневался, что в конце концов все эти разрозненные детали соединятся, сделав возможным торжественное, долгожданное и удивительное появление в его комнате уже целого Альберто; так в моей камере появился Миньон-Маленькая-Ножка, и мертвый и живой одновременно.
Когда деревенский священник, пришедший узнать новости, сказал Эрнестине: "Мадам, умереть молодым - это счастье", - она ответила: "Да, мсье герцог" - и сделала реверанс.
Священник внимательно взглянул на нее. - Она, улыбаясь, разглядывала в блестящем паркете свое отражение, бывшее ее антиподом, делавшее ее пиковой дамой, злой вдовой.
- Не пожимайте плечами, мой друг, я не сумасшедшая.
Она действительно не была сумасшедшей.
- Лу Кюлафруа умирает. Я это чувствую. Он сейчас умрет, я знаю.
"Он сейчас умрет, я знаю," - это выражение из одной книги вылетело живым и кровоточащим, как крылышко воробья (или ангела, если только ангелы способны истекать алой кровью), слова, с ужасом произнесенные героиней дешевого романа, напечатанного мелким шрифтом на пористой бумаге, похожей,
говорят, на совесть распутников, развращающих детей.
- Я буду танцевать под похоронное пение. Итак, нужно было, чтобы он умер. А чтобы пафос этого события стал более резким, она сама должна была вызвать его смерть. Мораль, страх перед адом или тюрьмой здесь ни при чем, верно? Вплоть до мельчайших подробностей Эрнестина -- а значит, и я тоже --
представила, как она будет действовать. Она выдаст это за самоубийство: "Я скажу, что он сам себя убил". Логика Эрнестины сродни логике театра и не имеет ничего общего с тем, что называют правдоподобием; ведь правдоподобие предполагает наличие ясных мотивов. Не будем удивляться, давайте лучше восхитимся.
Огромный револьвер в глубине выдвижного ящика определил ее поведение. Не впервые вещи побуждают к действию, и они должны были бы нести страшную по сути, но им ничем не грозящую ответственность за преступление. Револьвер - кто бы мог подумать? - стал непременной принадлежностью ее поступка. Он стал продолжением ее напрягшейся руки героини пьесы; он не давал ей покоя, - нужно же это сказать наконец, - с властной настойчивостью, от которой у нее горели щеки, с той настойчивостью, с которой плотные руки Альберто в раздувшихся карманах не давали покоя деревенским девушкам. Но точно так же, как я сам согласился бы убить только нежного подростка, чтобы после смерти мне достался труп, но труп еще теплый, и призрак, который так приятно обнимать; так и Эренестина шла на убийство только при условии, что она избежит ужаса, которого невозможно избежать на этом свете (конвульсии, упрек и отчаяние в глазах жертвы, брызги крови и мозга), и ужаса ангельского, потустороннего, именно поэтому, а может быть, и для того, чтобы придать больше торжественности моменту, она надела свои украшения. Так и я когда-то делал себе кокаиновые инъекции, специально выбирая для этого шприц в форме
изящной пробки для графина, и надевал на указательный палец кольцо с огромным бриллиантом. Действуя таким образом, она не понимала, что усложняет свой жест, придавая ему исключительность, странность, которые угрожали все испортить. Так и получилось. Плавно и медленно спускаясь, комната слилась с роскошной квартирой, в золоте, со стенами, обитыми гранатовым бархата с дорогой стильной мебелью, в полумраке созданном красными фаевыми портьерами, и увешанной большими зеркалами с хрустальными подвесками на канделябрах. Важная деталь: с потолка свисала огромная люстра, а пол был застелен пушистым сине-фиолетовым ковром.
Во время свадебного путешествия в Париж, как-то вечером с улицы Эрнестина мельком увидя через занавеси окна эти великолепные апартаменты, идя под руку с мужем, она робко, пока робко мечтала умереть там от любви к какому-нибудь тевтонскому рыцарю! Гарденал [6] и цветы... Пот! когда она уже успела умереть так несколько раз, квартира освободилась для драмы более страшной чем ее собственная смерть.
Я усложняю, запутываю, вы скажете: это ребячество. Да, это ребячество. Все заключенные - дети, и только дети бывают так изворотливы, скрытны, так понятны и непоследовательны. "А еще хорошо бы, - подумала Эрнестина, - чтобы о в каком-нибудь роскошном городе, в Каннах или в Венеции, чтобы я могла совершать туда паломничества".
Женой или любовницей дожа, остановиться в каком-нибудь отеле на берегу Адриатики, скажем, в "Ритце", и потом с охапкой цветов в руках по крутой тропинке взбираться к кладбищу, сесть на простую плиту из белого выпуклого камня и замереть, упиваясь ароматом страдания!
Не возвращая ее в реальность, которой она и не покидала, подготовка декораций для спектакля заставила ее, однако, стряхнуть с себя эти видения.
Она пошла за револьвером, который уже давно был заряжен предупредительным Провидением, и когда Эрнестина взяла его, тяжелый, как восставший фаллос то осознала, что беременна убийством, беременна смертью. Вам неведомо это нечеловеческое, это экстатическое состояние ослепленного убийцы, сжимающего в руке пистолет, нож, ружье или пузырек с ядом, или убийцы, который уже сделал шаг, ведущий его к пропасти. Последний жест Эрнестина могла бы исполнить быстро, но она, как, впрочем, и Кюлафруа, следует сценарию, которого не читала, который пишу я, и в котором развязка наступит в свое время. Эрнестине известна лишь ущербная, чисто литературная сторона ее поступка, но то обстоятельство, что она должна подчиниться плохой литературе, делает ее еще более трогательной и в ее собственных, и в моих глазах. В драме, как и в жизни, она избегает надменной красоты.
Всякому преднамеренному убийству, предшествует подготовительный церемониал и всегда, вслед за ним, следует церемониал искупительный. Смысл и того и другого обычно не доходит до сознания убийцы. Все идет своим чередом. У Эрнестины времени было как раз, чтобы резаться перед траурным залом прощания. Она выстрелила. Пуля пробила висящий под стеклом почетный диплом ее покойного мужа. Страшный Грохот. Одурманенный снотворным ребенок ничего не слышал. Эрнестина тоже: она выстрелила в квартире с гранатовым бархатом, и пуля, разбив (зеркала, подвески, хрусталь, искрошив мрамор, прорвав обивку, сломав, наконец, всю выдуманную конструкцию, обрушила на голову падающей Эрнестины, вместо сверкающей крови, хруст, люстры и подвесок и серый пепел.
Она пришла в себя посреди обломков собственной драмы. В руках ее уже не было револьвера, он исчез под кроватью, как топор на дне пруда, как бродяга в стене; ее руки, легкие, мысли, порхают вокруг нее. Потом она ждет.
Вот такой, пьяной от горя, ее и застал Миньон. Ему стало не по себе: она была красива и при этом казалась безумной, но, скорее, все-таки его испугала ее красота. Он сам был красив, чего же ей бояться? Увы, мне слишком мало, а точнее, почтиничего не известно о скрытых отношениях между красивыми людьми, знающими, что они красивы; и уж совсем ничего я не знаю об отношениях между красивыми мальчиками, которые кажутся друзьями, хотя, возможно, на самом деле ненавидят друг друге. Когда они просто улыбаются друг другу, вкладывают ли они бессознательно в эту улыбку какую-то нежность и как это влияет на них? Миньон неумело перекрестился над гробом. Его застенчивость можно было принять за отрешенность, но именно в этой застенчивости заключено все его очарование.
Смерть тяжелой печатью, как сургуч на старинных грамотах, повисла на занавесках, на стенах и на коврах. Но особенно на занавесках. Они ведь наиболее чувствительны. Они чувствуют смерть и, как собаки, возвещают о ней. Они облаивают смерть своими складками, которые приоткрываются, чернея, как рты и глаза масок в трагедиях Софокла, или выгибаются, становясь выпуклыми, как веки христианских аскетов. Ставни были закрыты, свечи зажжены. Миньон, который не узнавал мансарды, где жили они с Дивиной, вел себя сдержанно, как молодой человек, наносящий визит.
Его чувства у гроба? Никаких. Он уже забыл Дивину.
Служащие похоронного бюро явились почти тут же, очень кстати выручив его.
В пелене дождя черная процессия, пестрящая размалеванными лицами, пахнущая румянами и цветами, тронулась вслед за катафалком. Круглые плоские зонты, покачиваясь в такт шагам, поддерживали ее между небом и землей. Прохожие уже не видели ее, она была такой легкой, что уже поднялась на десять метров над землей; лишь служанки да лакеи еще могли бы рассмотреть ее, если только в эти 10 часов утра первые не подносили чашку шоколада в постель хозяйке, а вторые не открывали двери утренним посетителям. К тому же процессия двигалась так быстро, что была почти невидима. Оси колес катафалка были снабжены крыльями. Первым под дождь вышел священник, распевая Deus Irae. Он приподнимал подол сутаны, его научили делать так в дождливую погоду еще в семинарии. Этот хотя и непроизвольный жест, как бы высвобождал в нем из плаценты благородства целый ряд грустных и загадочных существ. Прикрывшись полой черного бархатного облачения, сшитого из того же бархата, что и полумаска Фантомаса или супруги венецианского дожа на карнавале, он попытался ускользнуть, но тут земля сама ускользнула из-под его ног, и мы сейчас увидим, в какую ловушку он попал. На мгновение показалась нижняя часть его лица. Священник этот был совсем молод: под его траурным облачением угадывалось тело страстного атлета. Иными словами, он носил чужую одежду.
Заупокойная служба в церкви ограничилась "Faites ceci en memoire de moi" [7], после чего священник волчьей походкой подошел к алтарю, молча открыл отмычкой замок дарохранительницы, отодвинул покров тем жестом, каким в полночь раздвигают двойной полог алькова, затем, затаив дыхание, взял дароносицу с осторожностью взломщика, не надевшего перчаток, и, разломив, проглотил подозрительного вида облатку.
Дорога от церкви до кладбища была долгой, а текст требника слишком хорошо известен. Хотя заупокойное пение и черное шитое серебром облачение были прелестны. Священник тащился по грязи, как если бы шел по лесу. Какому лесу? -спросил он себя. Ну, скажем, Богемский лес в одной чужой стране. Скорей всего - в Венгрии. Несомненно, к выбору именно этой страны его подтолкнуло мудрое предположение, что венгры -единственные азиаты на европейском континенте. Гунны. Атилла жжет траву, а его солдаты греют сырое мясо себе на обед, зажав его куски между ляжками, такими же, а может, и еще более мощными, чем ляжки Альберто, Миньона, Горги и даже чем бока их лошадей. Осень. В венгерском лесу идет дождь.
Вода с веток стекает на лоб священника. Слышен лишь шум капель, стучащих по мокрым листьям. Вечереет, в лесу становится все тревожнее. Священник поплотней запахивает на своих великолепных бедрах серый оплянд [8] , широкий, как. его сегодняшнее облачение, в которое он завернут там.
В лесу есть лесопилка, двое парней, которые на ней работают, ушли на охоту. Их здесь никто не знает. Они, священник узнал об этом, кажется, в одном из своих снов, вернулись недавно из кругосветного путешествия. Священник так же, как и там, читал здесь заупокойную молитву, в момент, когда наткнулся на одного из этих чужеземцев, того, который помоложе, с лицом, точь-в-точь как у мясника из моей деревни. Тот возвращался с охоты. В уголке рта - погасший окурок. Слово "окурок" и привкус размокшего табака заставили спину священника напрячься, и тремя маленькими резкими движениями он кончил; наслаждение отозвалось дрожью во всех его мышцах вплоть до самой последней, которая содрогнулась и извергла звездное семя.
Губы пильщика прильнули ко рту священника, впихнув в него окурок языком более властным, чем королевский указ. Священник был сражен любовью и без чувств упал на пропитанный водой мох. Раздев его почти догола, незнакомец ласкал его с благодарностью, даже, как показалось священнику, умиленно. Потом он одним движением перекинул через плечо свой ягдташ, в котором лежал лесной кот, подобрал ружье и ушел, беззаботно посвистывая.
Священник огибал склепы, педерасты шли за ним, спотыкаясь о камни, по мокрой траве, среди могил они походили на ангелов. Мальчик-певчий, жалкий замухрышка, который и не подозревал о приключении, только что пережитом священником, спросил, можно ли ему не снимать скуфью. Священник разрешил. На ходу, не вынимая руку из кармана, ногой он сделал то, чисто танцевальное, Движение, которым заканчивается танго. Он слегка присел на чуть выставленную вперед на носок ногу и резко выставил вперед колено, отчего сутана закачалась, подобно широким штанинам моряка или гаучо, шагающего вразвалку. И затянул псалом.
Когда процессия подошла к могиле, наверняка вырытой тем самым могильщиком, за которым Дивина когда-то наблюдала из своего окна, гроб с покойницей, завернутой в белые кружева, был опущен. Священник освятил могилу и передал кропило сперва Миньону, который покраснел, ощутив в руке тяжесть этого предмета (ведь он был уже далеко от Дивины, на полпути назад к своему племени, родственному племени молодых цыган, которые соглашаются вас "покачать" [9], но только ногами), а потом педерастам, и все вокруг наполнилось визгом и фырканием. Именно о таком уходе, в обстановке, созданной причудливым переплетением фантазии и гнусности, Дивина, должно быть, и мечтала.
Дивина умерла. Умерла и похоронена.
...Умерла и похоронена.
Раз Дивина умерла, поэт может воспевать ее, рассказывать легенду, сагу или предание о Дивине. Сагу о Дивине нужно бы танцевать, изображать жестами и мимикой, изредка поясняя действие легкими ремарками. Невозможность представить вам ее балетное воплощение, заставляет меня прибегать к многословию, дабы создать нужное впечатление, но я постараюсь избежать при этом выражений банальных, пустых, бессодержательных и бесцветных.
Чего хочу я, сочиняя эту историю? Восстановив ход своей жизни, проследив ее путь, я стремлюсь наполнить мою камеру наслаждением, стать тем, чем я чуть было не стал, вновь найти те мгновения, когда я блуждал в сложных лабиринтах ловушек подземного неба, погружаясь в них, как в черную пустоту. Медленно передвигать массы зловонного воздуха, обрезать нити, на которых букетами висят мои чувства, наблюдать, как из неведомо какого звездного потока возникнет, возможно, цыган, которого я ищу, мокрый, в пене волос, играющий на скрипке, дьявольски ловко спрятанный за алым бархатным занавесом ночного кабаре.
Говоря о Дивине, я буду, в зависимости от своего настроения, смешивать мужское и женское, а если мне придется цитировать, по ходу повествования, какую-нибудь женщину, я найду способ, как-нибудь исхитрюсь, чтобы не возникло путаницы.
Появившись однажды в Париже, Дивина так и прожила там двадцать лет, до самой смерти. Она всегда была худенькой, и подвижной, хотя к концу жизни черты ее приобрели некоторую угловатость. Около двух часов ночи она вошла в кафе Граффа на Монмартре. Посетители его были сплошь из еще сырой и бесформенной глины, Дивина же вся была из чистой воды. Большое кафе с закрытыми окнами, завешенными шторами на выгнутых карнизах, было набито людьми, тонувшими в сигаретном дыме; Дивина внесла сюда с собой какую-то скандальную свежесть, свежесть утреннего ветерка, и упоительную сладость стука каблуков по каменному полу храма; и, как ветер крутит листья, так она заставила повернуться ставшие вдруг легкими и дурными головы банкиров, коммерсантов, альфонсов, гарсонов, управляющих, полковников, уродов.
Она села за пустующий столик и заказала чаю.
- И лучше китайского, мой милый, - сказала она.
С улыбкой. Посетителям ее улыбка показалась возмутительно дерзкой. Обычно принято покачивать головой, говоря о таких улыбках. Но пусть для поэта и для читателя ее улыбка будет загадочной.
В тот вечер она была в шелковой блузе цвета шампань, в краденых матросских брюках и кожаных сандалиях. На одном пальце, кажется, на мизинце, сверкал яркий, как гангренозная язва, камень. Принесенный чай она пила как дома: маленькими глоточками (точно голубка), поднимая и ставя назад чашку и отставляя в сторону мизинец. Вот ее портрет: волосы темно-русые и вьющиеся, их завитки падали ей на глаза и на щеки, эту прическу можно было бы назвать "кошка с семью хвостами". Чуть выпуклый чистый лоб. Глаза, несмотря на живущее в них отчаяние, поют, и их мелодия передается от глаз зубам, оживляя их, а от зубов дальше - всем ее движениям вплоть до малейшего жеста. Струясь из глаз, ее очарование волнами докатывается до босых ног. Ее тело изысканно, как янтарь. Ее ноги становятся быстрыми, когда ей случается убегать от призраков, от ужаса на них вырастают крылья. Она очень проворная, ведь чтобы сбить призраков со следа, ей нужно мчаться быстрее собственных мыслей. Она пила свой чай под взглядами тридцати пар глаз, выражение которых явно противоречило тому, что произносилось презрительными, раздосадованными, грустными и увядшими ртами.
Дивина была изящной, но напоминала при этом тех праздных бродяг, которые слоняются в поисках красивых зрелищ и редких ощущений, таская за собой весь неизбежный хлам пройденных сказочных городов. При малейшем движении, завязывают ли они галстук или стряхивают пепел с сигареты, тут же включаются "однорукие бандиты". Дивина связывала в узел сонные артерии. Она была непреодолимо соблазнительна. Будь моя воля, я бы сделал из нее рокового героя, на свой вкус. Роковой для меня - это такой, от которого зависит судьба всех тех, кто в оцепенении смотрит на него. Я изваял бы ее с каменными бедрами, гладкими блестящими щеками, тяжелыми веками, с языческими коленями, столь восхитительными, что в них отражались бы безнадежно-мудрые лица мистиков. Я бы лишил ее всякой чувственной привлекательности. Пусть бы она согласилась быть ледяной статуей. Но ведь я прекрасно знаю, что бедняга Демиург вынужден создавать свое творение по своему подобию и что он не выдумал Люцифера. Нужно, чтобы понемногу дрожь моего тела передалась граниту стен моей камеры. Я долго пробуду с ним наедине и заставлю его жить в моем дыхании и в запахе моих газов, таких торжественных или сладких. И на протяжении книги я бы постепенно высвобождал ее из камня и, передавая понемногу ей мои страдания и избавляя понемногу от зла, я подвел бы ее за руку к святости.
Гарсон, который прислуживал Дивине, не прочь был и позубоскалить, но не осмелился этого сделать перед ней. Управляющий же подошел к ее столику, приготовившись, как только она допьет свой чай, попросить ее уйти и таким образом предупредить ее появление в другой раз.
Наконец она достала пестрый носовой платок и промокнула им свой белоснежный лоб. Затем положила ногу на ногу; на щиколотке у нее была цепочка с медальоном, в каких обычно хранится прядь волос. Она улыбнулась всем, но вместо ответа все отвернулись; впрочем, это и было ответом. В кафе наступила такая тишина, что отчетливо был слышен малейший звук. Всем эта улыбка (для полковника это была улыбка гомосексуалиста; для коммерсантов - голубого, для банкиров и гарсонов -гомика; для альфонсов - "этой") показалась мерзкой. Дивина не стала настаивать. Из крошечного черного атласного кошелька она достала несколько монет и бесшумно положила их на
мраморный стол. Кафе исчезло. Дивина обратилась в одного из зверей, которых изображают на стенах - химеру или грифона - это кто-то из посетителей, думая о ней, непроизвольно прошептал магическое слово:
"Педераст".
В тот вечер на Монмартре она впервые искала клиента- Ей не повезло. И тогда она без предупреждения появилась у нас; у посетителей не хватило времени, и особенно хладнокровия, чтобы спасти репутацию и свою и своей самки. Выпив чай, Дивина ушла, безразличная (внешне она такой казалась), извиваясь в, букете цветов, роняя за собой блестки и шелестя невидимыми оборками. И вот уже ее, решившую вернуться домой, столб дыма поднял в мансарду, где на двери была приколота огромная роза из выцветшей кисеи.
Она любила духи с сильным вульгарным запахом. По ним сразу можно понять, что вульгарность ей вообще нравилась. У Дивины был хороший, устоявшийся вкус, а в том, что ее, такую утонченную, жизнь то и дело ставит в непотребное положение, толкает во всякую грязь, в этом нет ничего удивительного. Она обожает вульгарность, потому что самую большую любовь в своей жизни она испытала к чернокожему бродяге. На нем и под ним, когда он пел, прижавшись губами к ее губам, цыганские песни, которые пронизывали ее тело, она научилась ценить прелесть вульгарных тканей, таких как, например, шелк, и всякие золотые нашивки, которые обычно очень идут бесстыдным существам. Монмартр пылал. Дивина пересекла разноцветные огни и, невредимая, погрузилась в ночь бульвара Клиши, в ночь, которая скрывает бедные, старые и уродливые лица. Было три часа ночи. Она направилась было в сторону площади Пигаль, с улыбкой всматриваясь в каждого одинокого мужчину. Но те не решались, а может, это она еще не приспособилась к привычному ритуалу: поворот головы клиента, его колебания, его неуверенность, когда он подходит к мальчику, возбудившему в нем желание. Утомившись, она села на скамейку, и тут же, несмотря на усталость, была захвачена, околдована теплотой ночи. На момент всего одного удара сердца она вдруг словно лишилась чувств и так объяснила себе свое волнение: "Эти ночи без ума от меня, как жены султана. Боже мой, они мне строят глазки! О! Они наматывают себе на пальцы мои волосы (ведь пальцы ночей - это мужские члены!). Они гладят меня по щеке, ласкают мои ягодицы." Она думала так, не поднимаясь, однако, и не падая в выхолощенную поэзию земного мира. Поэзия никак не сказывается на ее состоянии. Она всегда останется проституткой, озабоченной поисками заработка.
Всякому мужчине по утрам приводилось испытывать вместе с чувством усталости возбуждающий прилив нежности. Как-то раз на рассвете мне случилось в приступе беспредельной любви прильнуть губами к обледеневшим перилам на улице Берт, в другой раз - поцеловать собственную руку, а еще бывает, когда не в силах сдержать эмоции, захочешь проглотить себя самого, вывернув свой непомерно разинутый рот на голову, захватив все свое тело, а вместе с ним и весь мир; и превратиться в шар из того, что проглочено, в шар, который понемногу тает и исчезает: таким я представляю себе конец света. Дивина отдавалась ночи, чтобы та ее поглотила из нежности и уже никогда бы не извергла обратно. Она голодна. Кругом пусто. Пусты бульварные сортиры, пустынна земля бульвара. Вон идет компания молодых рабочих, у которых вся беспорядочная юность в плохо завязанных шнурках, болтающихся по земле; -парни покидают мир наслаждений и быстрым шагом возвращаются по домам. Пиджаки с широченными плечами, надетые, как кираса или хрупкий панцирь, скрывают неискушенность их тел; но, благодаря своей мужественности, пока еще столь же легкой, как надежда, они неприкосновенны для Дивины.
Этой ночью она ничего не сделает. Столь велико ее удивление тем, что возможные клиенты так и не спохватились. С ощущением голода в желудке и в сердце она вынуждена будет вернуться в свою мансарду. Дивина встала, чтобы уйти. Какой-то человек приближался, пошатываясь. Поравнявшись с ней, он неожиданно схватил ее за локоть. - О, простите, - сказал он, - извините.
От него разило вином.
- Ничего, - ответил педераст.
Этим прохожим был Миньон-Маленькая-Ножка.
Приметы Миньона: рост 175см., вес 75кг., лицо овальное, волосы светлые, глаза сине-зеленые, кожа гладкая, зубы ровные, нос прямой.
Он тоже был молод, почти так же молод, как и Дивина, и я хочу, чтобы он таким и оставался до конца книги. Каждый день надзиратели открывают дверь моей камеры, чтобы выпустить меня на прогулку в тюремный двор. За короткое время я успеваю встретиться на лестницах и в коридорах с ворами и хулиганами, их лица входят в мое, тела -издалека - сбивают меня с ног. Я страстно желаю обнять их, однако ни один из них не в силах вызвать во мне образ Миньона.
Когда я познакомился с ней в тюрьме Френ, Дивина много рассказывала мне о нем, повсюду в тюрьме она искала воспоминаний о нем, искала его следов, но я так и не сумел представить себе его лица, и теперь у меня есть соблазн смешать его в воображении с лицом и фигурой Роже.
От этого корсиканца в моей памяти мало что осталось: рука с невероятно крупным большим пальцем, которая играет крошечным ключиком, и неясный образ светловолосого мальчика (он поднимается по улице Канебьер), с цепочкой из чистого золота на ширинке, которую эта цепочка как бы застегивает. Вот он в группе самцов, надвигающихся на меня с неумолимостью шагающих лесов. В моих видениях я представляю, что его зовут Роже, это имя звучит одновременно и по-детски и солидно, с апломбом. У Роже был апломб. Я только что вышел из тюрьмы Шав и удивлялся, что его там не встретил. Что нужно мне было совершить, чтобы стать достойным его красоты? Мне недоставало смелости даже на то, чтобы восхищаться им. Когда не было денег,, я устраивался на ночлег за кучами угля, в доках, и каждый вечер я брал его с собой. Воспоминание о нем уступило место воспоминаниям о других мужчинах. И теперь снова, уже второй день, в своих видениях я смешиваю его жизнь (вымышленную) с моей. Мне бы хотелось, чтобы он любил меня, и, естественно, он делает это с готовностью, в которой наверняка есть доля извращенности, иначе как бы он мог меня любить? Два дня подряд я питал его образом видение, которого обычно хватает на 4 - 5 часов, и оно было так прекрасно, что я отдал ему в жертву мальчика. Теперь я уже просто не в состоянии придумать обстоятельства, в которых он еще меня не любил. Я измучен вымышленными путешествиями, грабежами, изнасилованиями, взломами, арестами, изменами, в которых мы были замешаны, которые мы совершали один для другого, один ради другого, и никогда не ради себя и не для себя, когда приключениями были мы сами и никто больше. Я выбился из сил, мое запястье сводит судорога. Наслаждение истощилось до последней капли. Я жил им и с ним в своих четырех голых стенах, и за эти два дня все, что может дать жизнь, повторилось раз двадцать, и я был заполнен им до такой степени, что эта жизнь казалась мне более настоящей, чем жизнь подлинная- Я отказался от мечтаний. Я был любим. Я отказался, как отказывается от борьбы гонщик Тур-де-Франс, и все же воспоминание о его глазах, его усталом взгляде, который мне приходится ловить на лице какого-нибудь юнца, выходящего из борделя, круглые икры его ног, его мощный член, такой крепкий, что я чуть было не сказал - узловатый, и его лицо, оно ничем не скрыто и ищет прибежища, как странствующий рыцарь, - это воспоминание не желает рассеиваться, как рассеялись воспоминания о других моих выдуманных спутниках. Оно расплывается. Оно уже не такое отчетливое, как раньше, но все еще живет во мне. Некоторые детали изо всех сил цепляются, желая удержаться: например, маленький полый ключик, в который он иногда свистит, большой палец его руки, его свитер, его голубые глаза... Если я буду настаивать, он придет и овладеет мной так, что на теле у меня останутся стигматы. Я больше не в силах удерживать его в себе. Я сделаю из него персонажа и сам его помучаю: это будет Миньон-Маленькая-Ножка. Он останется 20-летним, хотя ему суждено стать и отцом и любовником Норт-Дам-де-Флер.
Дивине он сказал:
- Извините!
Хмель помешал Миньону заметить необычный вид этого прохожего, вежливо, но настороженно спросившего :
- Ты что, друг?
Дивина остановилась. После обмена шутливо-угрожающими репликами все вышло так, как и следовало желать. Дивина привела Миньона к себе, на улицу Коленкур. В ту самую мансарду, где она умерла и из которой, подобно морю перед взором марсового, открывался вид на кладбище, на могилы. Поющие кипарисы. Дремлющие призраки. Каждое утро Дивина будет вытряхивать в окно пыльную тряпку и прощаться с призраками. Однажды, глядя в бинокль, она обнаружит молодого могильщика. "Да простит меня Господь, - закричит она, - но на могиле стоит бутыль с вином!" Этот могильщик состарится вместе с Дивиной, а потом и похоронит ее, так ничего и не узнав о ней.
Итак, они с Миньоном поднялись наверх. Уже в мансарде, закрыв дверь, она раздела его. Без брюк, куртки и рубашки он оказался белым и вялым, как осевший снег. К вечеру они очнулись в одной постели в куче влажных смятых простыней.
- Какие деньги? Ты что? Я же ничего вчера не соображал!
Он неестественно расхохотался и огляделся вокруг. Комната Дивины находилась под самой крышей. Пол застелен потертыми коврами, на стене - фотографии убийц со стены моей камеры, и великолепные изображения красавцев, которые Дивина стащила с витрины фотоателье. Все они были помечены знаком тьмы.
- Ничего себе выставка!
На камине, на маленьком раскрашенном деревянном паруснике, стоял флакон с гарденалом, с его помощью комната могла отделяться от каменной массы дома и повисать, как клетка, между небом и землей.
По манере говорить, зажигать спичку и курить сигарету Дивина поняла, что Миньон - сутенер. Сначала она забеспокоилась: а вдруг он ее побьет, ограбит или оскорбит? Потом она ощутила гордость от того, что угодила "коту". Даже не подумав, к чему все это может привести, скорее бессознательно, подобно кролику, который отправляется к удаву в пасть, Дивина, будто зачарованная, произнесла:
"Останься", и поколебавшись немного: "Если хочешь."
- Да ты никак влюбилась в меня? Миньон остался.
.В ее просторную монмартрскую мансарду с маленьким окошком, откуда, глядя в промежуток между оборками занавесок, собственноручно сшитых ею из розового муслина, Дивина наблюдает за белыми колыбельками, проплывающими по спокойному синему морю так близко, что можно различить лежащие в них цветы, из которых вытягивается застывшая в балетном па нога; в эту мансарду Миньон притащит синюю походную куртку, связку отмычек, инструменты, он свалит свои пожитки в кучку на полу, а сверху положит белые, похожие на парадные, резиновые перчатки. Так, в этой комнате, опутанной проводами от ворованного радиатора, ворованного радиоприемника и ворованных ламп, и началась их совместная жизнь.
Они завтракают после полудня. Днем спят или слушают радио. Потом красятся и выходят на улицу. Как правило, по вечерам Дивина вкалывает на площади Бланш, а Миньон идет в кино. Дивина долго будет пользоваться успехом. Благодаря покровительству и советам Миньона, она знает, когда и кого обчистить, кого пошантажировать. Они неуловимы, в кокаиновом тумане расплываются очертания их жизни, блуждают тела.
У Миньона, хоть он и негодяй, лицо было ясное. Красивый малый, горячий и нежный, прирожденный "кот", он казался мне всегда голым, столь благородны были его манеры, за исключением одного смешного и трогательного движения: снимая брюки и трусы, он выгибал спину дугой и переступал с ноги на ногу. Еще до рождения, в теплой утробе матери, Миньон был крещен, можно даже сказать, причислен к лику святых, почти канонизирован. Это было что-то вроде "белого" крещения, которое после смерти приведет его прямо в преддверие рая; короче, один из быстрых, но исполненных таинственности и чрезвычайно драматических ритуалов в рамках закрытого сообщества, пышной церемонии, на которую слетаются ангелы, собираются все божественные силы и даже само Божество. Миньон знает и одновременно не знает об этом, потому что ни разу за всю свою жизнь никто не рассказал ему об этих тайнах громко и внятно, кажется, что кто-то просто нашептывает ему про них. И это крещение, с которого началась его жизнь, освещает ее всю золотистым сиянием, теплым и слабым, вознося его сутенерскую жизнь на пьедестал, увитый цветами, как могила девушки бывает увита плющом, пьедестал массивный и при этом легкий, с которого с 15 лет Миньон мочится, стоя в такой позе: ноги раздвинуты, колени слегка согнуты, а струя его настолько сильная, насколько это возможно в 18 лет. Ведь - и на этом мы настаиваем особо - нежнейший нимб всегда ограждает его от слишком сильных соприкосновений со своими собственными острыми углами. Если он говорит: "Я выпустил жемчужину" или "Одна жемчужина упала", это значит, что он пукнул как-то по-особенному, очень мягко, так что газы вышли без треска. Поразительно, но это и в самом деле напоминает матовую жемчужину: его приглушенное истечение, словно тайное бегство, кажется нам молочно-бледным, как жемчуг. Миньон при этом предстает перед нами каким-то необыкновенно изысканным альфонсом или индусом, или принцессой,
любительницей жемчуга. Жемчужно-матовый запах, который он тихо испускал в тюрьме, как сияние, обволакивает его с головы до ног и отделяет от всего окружающего, но в меньшей степени, чем выражение, которое он при своей необыкновенной красоте не боялся произнести. фраза "Я уронил жемчужину" указывает на то, что он пукнул без звука. Если газы вышли с шумом, это неприлично, и когда так делает какой-нибудь бродяга, Миньон говорит:
- Вот, задница треснула!
Каким-то сверхъестественным образом, магией своей высокой и светлой красоты Миньон более властно, по-моему, чем это сделал бы негр-убийца, переносит нас в саванну, в самое сердце черных континентов; Миньон прибавляет:
- Ужасно воняет. Я не могу больше оставаться рядом с собой.
Короче, он несет свою низость, как стигматы от раскаленного железа на коже, но эти драгоценные стигматы облагораживают его, подобно лилии на плече проходимца в старинные времена. Подбитый глаз - позор для "кота", а для Миньона:
- Мои букетики фиалок, - так он говорит. А еще он говорит по поводу желания посрать:
- У меня сигара во рту.
У него совсем мало друзей. Если Дивина своих друзей теряет, то он своих продает полицейским - Дивина об этом еще ничего не знает: любя предательство, он для себя одного бережет свой образ предателя. Дивина встретила его как раз в тот день, когда он вышел из тюрьмы, откуда его, несмотря на обвинение, как минимум, в грабеже и в хранении краденого, выпустили после того, как он совершенно хладнокровно заложил своих сообщников и даже друзей, которые не были сообщниками.
Как-то вечером, прежде чем отпустить Миньона из' участка, куда тот попал в результате облавы, инспектор вдруг сказал ему тем ворчливым тоном, что, казалось, за его словами ничего не стоит: "Тебе там нечем заняться? Тогда нужно поработать на нас, и все устроится". Миньон испытал, вы бы сказали, какое-то постыдное удовольствие, тем более сладкое оттого, что он сам считал его постыдным. Он постарался придать себе развязный вид и сказал:
- Но это рискованно.
При этом он заметил, что уже говорит тише обычного.
- Ну, со мной тебе нечего бояться, честное слово, - настаивал инспектор. - Каждый раз ты будешь получать сто франков.
Миньон согласился. Продавать других ему нравилось, это делало его бесчеловечным. Обесчеловечиться - вот к чему я внутренне стремлюсь. Он вновь и вновь рассматривал помещенную на первой странице вечерней газеты фотографию молодого морского лейтенанта, который, помните, был расстрелян за предательство. "Дружище! Братишка," - подумал Миньон.
Его переполнял детский восторг: "Я - фальшивый жетон!" Спускаясь по улице Данкур, пьяный от сознания своего тайного величия, словно он нашел клад, и от собственной низости (ибо лучше, чтобы она нас пьянила, если мы не хотим, чтобы ее размеры нас погубили), он бросил взгляд на витрину магазина, из которой на него смотрел Миньон, сияющий от тайной гордости, брызжущий ею. Он увидел Миньона, одетого в костюм принца Уэльского: мягкая шляпа набекрень, неподвижные плечи, которыми он старался не двигать при ходьбе, чтобы походить на Пьеро-дю-Тополь, а Пьеро не двигал плечами, чтобы походить на Поло-ла-Ваш, а Поло - чтобы походить на Тиуи и так далее: список настоящих, абсолютно безупречных "котов" завершался Миньоном, "фальшивым жетоном", и казалось, потершись среди них, украв их манеры, он их, вы бы сказали, замарал своей гнусностью. Мне хочется, чтобы он был именно таким, цепочка на запястье, мягкий галстук, как язык пламени, и эти невероятные туфли, которые носят только "коты", светло-желтые, тонкие и остроносые. Ведь понемногу, благодаря Дивине, Миньон сменил свою одежду, изношенную за месяцы, проведенные в тюрьме, на элегантные костюмы из тонкой шерсти и надушенное белье. Он был в восторге от такого преображения, ведь он был еще "кот-дитя". Душа скандалиста и хулигана была отброшена вместе со старым тряпьем. Теперь в кармане он нащупывает и поглаживает рукой, рядом с членом, револьвер калибра 6/35. Когда здесь лежал нож, ощущение было совсем не то. Но обычно ведь одеваются для себя, а Миньон одевается для тюрьмы. С каждой новой покупкой он думает, какой бы эффект это произвело на его возможных товарищей во Френ или в Санте. Вы их себе как представляете? Двое-трое "бывалых", которые, увидев его впервые, сразу признают в нем своего, несколько мрачных мужчин протянут ему руки или, выходя или возвращаясь с прогулки, бросят ему на ходу, не разжимая губ:
"Чао, Миньон." Но, в основном, его товарищами будут босяки, которых легко обмануть. Тюрьма - это нечто вроде Бога, такой же варвар, которому преподносят золотые часы, ручки, перстни, платки, носовые и шейные, ботинки. Миньон меньше всего мечтает о том, чтобы во всем великолепии своих новых костюмов покрасоваться перед какой-нибудь шлюхой или о своих ежедневных встречах на воле, он думает о том лишь, как войдет в камеру со сдвинутой на нос шляпой, ворот шелковой белой рубахи распахнут (галстук у него отняли при обыске), английский реглан расстегнут. И вот уже бедняги заключенные смотрят на него с уважением. Стоило ему появиться, и они покорены: "Ну, и рожи будут у них!" - подумал бы он, если бы умел думать о своих желаниях. Он сидел дважды, и тюрьма так повлияла на него, что всю оставшуюся жизнь он жил уже только для нее. Его роль там была четко определена, и смутно он догадывается, что обречен всегда играть эту роль. Возможно, он понял это, когда на странице библиотечной книги увидел такую надпись:
Не доверяйте:
- Во-первых, Жану Клементу по кличке Лопе,
- Во-вторых, Роберу Мартену, по кличке Педаль,
- В-третьих, Роже Фальгу, по кличке Тата,
- Лопе стучит Пти-Пре [10],
- Тата - Ферье и Грандоту,
- Педаль - Мальвуазену.
Единственное средство избежать страха это отдаться ему. Ему страстно захотелось, чтобы среди этих имен появилось и его имя. В конце концов, понятно, что любой может устать от героического напряжения человека, преследуемого законом, и что с полицией начинаешь сотрудничать, чтобы вернуться вновь к ограбленному тобой человечеству. Дивина ничего не знала об этой стороне жизни Миньона. Но узнай, она бы лишь сильнее полюбила его, ведь для нее любовь то же самое, что отчаяние. Тогда бы они выпили чаю, а Дивина пьет чай, как голубь чистую воду. Так пил бы, если бы пил, Дух Святой в образе голубки. Миньон танцует яванский танец, не вынимая рук из карманов. Когда он ложится, Дивина льнет к нему.
Говоря о Миньоне, Дивина задумчиво складывает руки:
- Я обожаю его. Когда он лежит голым, мне хочется отслужить мессу на его груди.
Миньону понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть говорить о ней "она" и обращаться к ней в женском роде. Наконец, это ему удалось, но он не терпел, когда она обращалась с ним, как с подружкой, и лишь потом понемногу начал уступать. И вот наконец Дивина осмелилась ему сказать:
- А ты красивая, - и добавила:
- Как "рыбка"... [11]
В результате ночных и дневных вылазок Миньона в мансарде скапливаются бутылки с ликерами, шелковые платки, флаконы с духами, поддельные драгоценности. Каждый предмет привносит с собой в эту комнату очарование мелкой кражи, быстрой, как призывный взгляд. Миньон крадет с полок больших магазинов, из автомобилей, крадет у своих немногочисленных друзей, крадет везде, где только может.
В воскресенье они с Дивиной идут к мессе. В правой руке у Дивины молитвенник с позолоченными застежками. Левой рукой в перчатке она Придерживает воротник пальто. Они идут, не глядя по сторонам.
Приходят в Мадл [12] и садятся, они верят в священников в золотых облачениях. Служба восхищает Дивину. Для нее все выглядит очень естественным. Каждый жест священника понятен и кажется ей точным, любой сумел бы его выполнить. Когда священник складывает два кусочка разломанной облатки, края их не сливаются воедино, и когда он поднимает ее, держа двумя руками, то не пытается заставить поверить в чудо. У Дивины мурашки бегут по
спине.
Миньон молится: "Матерь наша, сущая на небесах..." Иногда они причащаются у священника с противной физиономией, который со злобным видом сует им в рот облатку.
Миньон ходит в церковь еще и ради шика. Вернувшись в мансарду, они ласкают друг друга. Дивина любит своего мужчину. Она печет ему пироги, намазывает маслом тосты. Она думает о нем, даже когда он в туалете. Она обожает его в любой позе.
Ключ бесшумно отворяет дверь, и стена разверзается, как разверзаются небеса, чтобы показать ''Человека, подобного тому, которого Микеланджело изобразил обнаженным в "Страшном Суде". Когда дверь затворяется вновь, с осторожностью, с какой можно затворить и дверь хрустальную, Миньон кидает шляпу на диван, кидает окурок куда попало, скорее всего в потолок. Дивина бросается к своему мужчине, льнет к нему; он стоит твердый и неподвижный, словно чудовище Андромеды, обратившееся камень.
Друзья избегают его, поэтому Миньон иногда водит Дивину в "Рокси". Они играют в покер.
Миньону нравится элегантное движение, которым смешиваются фишки. С таким же наслаждением он следит за пальцами, которые изящным движением скручивают папиросу или снимают колпачок с ручки. Время с его секундами, минутами, часами не существует для него. Его жизнь - подземное небо, населенное барменами, сутенерами, педерастами, ночными красавицами, пиковыми дамами, но жизнь его - Небо. Он любит удовольствия. Он знает все кафе в Париже, в которых есть туалеты с сиденьем.
- Чтобы как следует облегчиться мне нужно сидеть, - говорит он.
Он способен пройти километры, бережно неся в своей утробе желание высраться, которое с важным видом удовлетворит в отделанных сиреневой мозаикой туалетах на вокзале Сен-Лазар.
Я мало что знаю о его происхождении. Дивина однажды назвала мне его имя, кажется, Поль Гарсия. Несомненно, он родился в одном из кварталов, наполненных запахом экскрементов, которые, завернув в газету, выбрасывают на улицу из окон с обязательным цветочным горшком на подоконнике.
Миньон.
Когда он трясет своей кудрявой головой, видно, как в его ушах качаются золотые кольца, какие в давние времена носили его предки-грабители. Движение ноги, которым он на ходу раскачивает низ брюк, походит на движение пятки у женщины, расправляющей оборки юбки, чтобы закружиться в вальсе.
Итак, наша парочка живет счастливо, что без труда может подтвердить их консьержка, имеющая возможность наблюдать за их жизнью из своей каморки под лестницей. Ближе к вечеру ангелы слетаются, чтобы подмести и прибрать в их комнате.
Для Дивины ангелы - это движения, которые делаются сами по себе, без ее участия.
Ах, до чего же мне сладко говорить о них! Легионы солдат в форме из толстого серо-голубого сукна, цвета речной воды, в кованых башмаках упорно расстреливают небесную синеву. Рыдают самолеты. Весь мир умирает от панического страха. Ствол орудия поднимается и выстреливает, и пять миллионов разноязыких юношей сейчас умрут. В благоухании собственной плоти люди гибнут, как мухи. Умирание плоти исполнено торжественности. И мне сейчас доставляет удовольствие рассуждать об этих чудесных мертвецах: вчерашних, сегодняшних, завтрашних. Я вижу мансарду, где живут мои любовники. Они впервые крупно поссорились, ссора закончилась любовью. Дивина рассказала мне, как однажды Миньон проснулся к вечеру, настолько вялый, что не мог открыть глаза и, услышав, как она ходит по комнате, спросил: "Что ты делаешь?"
Когда мать Дивины, Эрнестина, затевала стирку, она обычно говорила: "Пойду-ка, поиграю в корыто"; каждую субботу она "играла с корытом". Ну, Дивина и отвечает: "Я играю в корыто".
Поскольку ванны у Миньона не было, он мылся в корыте. Сегодня, или в какой-то другой день, но мне кажется, что сегодня, он во сне забирался в корыто. Анализировать собственные мысли он не умеет и никогда этого не делает, но он так же чувствителен к проделкам судьбы, как к трюкам в театре ужасов. Когда Дивина отвечает: "Я играю в корыто", он воспринимает это, как если бы она сказала: "Я играю, будто я корыто". (С таким же успехом она могла бы сказать: "Я играю в паровоз") [13]. Он вдруг возбуждается, представив, как во сне проникает в Дивину. Член из его сна входит в Дивину, которая снится Дивине, и он овладевает ею на этой воображаемой оргии. И в мозгу его вертелось: "До самого сердца, по самую рукоятку, по самые яйца, по горло".
Миньон влюбился.
Мне нравится выдумывать разные способы, с помощью которых любовь ловит людей. Она, как Иисус, входит в сердце горячо верующих, а еще она может входить тайно, как вор.
Тут один тип рассказал мне историю наподобие известной притчи о том как два соперника знакомятся с Эросом. Он рассказывал так:
- Как я втюрился. Это было в тюрьме. Вечером нужно было раздеваться, даже рубашку стаскивать, чтобы показать надзирателю, что у тебя ничего нет (ну, шнурков, там, напильника или лезвия). Стою так с парнем в чем мать родила. Я позырил в его сторону: так ли он мускулист, как казался. Я не успел разглядеть его как следует, холодно было. Он быстро оделся. Но, чтобы заметить, до чего он хорош - просто шикарный! - времени мне хватило. Было на что посмотреть! Душ из розовых лепестков! Я тогда даже позавидовал. Честное слово! Я свое, конечно, получил (это прозвучало помимо его воли как: получил по морде). Это длилось всего ничего: четыре или пять дней...
Остальное нас не интересует. Любовь устраивает и худшие западни. Самые дикие. Самые странные. Она использует совпадения. Надо же сделать так, чтобы какой-то мальчишка засунул два пальца в рот и пронзительно свистнул как раз в тот момент, когда моя душа переживала момент крайнего напряжения и только ждала этого пронзительного свиста, чтобы разорваться снизу доверху. А как выбирается момент, чтобы два существа полюбили друг друга до смерти? "Ты - солнце в моей ночи. Моя ночь - это солнце в твоей ночи" Мы сталкиваемся лоб
в лоб. Мы не соприкасаемся, но издалека мое тело проходит сквозь твое, и твое, тоже издалека, -сквозь мое. Мы создаем мир. Все изменяется... а там!
И пока не расстанемся, будем любить друг друга, как два молодых боксера, которые дерутся, рвут друг на друге майки а потом, уже голые, с изумлением замечают, как они оба красивы, словно видят себя в зеркале, оторопело замирают на мгновение, потом, досадуя на ошибку, встряхивают своими спутанными волосами, улыбаются друг другу влажной улыбкой и обнимаются, как два классических борца: один вкладывает свои мускулы в углубления, предлагаемые мускулами другого, они опускаются на ковер, и вот их теплая сперма, брызнув вверх, чертит по небу млечный путь, созвездия которого я легко узнаю: созвездие Матроса, созвездие Боксера, Велосипедиста, Скрипки, Спаги [14], Кинжала. Так на стене мансарды, в которой живет Дивина, появляется новая карта звездного неба.
Как-то раз Дивина приходит домой после прогулки в парке Монсо. И вдруг в вазе видит черную, корявую ветку вишневого дерева с розовыми распустившимися цветами. Дивина оскорблена. В деревне крестьяне научили ее с уважением относиться к фруктовым деревьям, не считать их цветы декоративными, и она уже никогда не сможет ими любоваться. Сломанная ветвь оскорбляет ее так же, как вас бы оскорбило убийство юной девушки. Она делится своими переживаниями с Миньоном, а он в ответ хохочет во все горло. Дитя большого города, плевал он на крестьянские глупости. Тогда Дивина, чтобы довести до конца святотатство и, завершив, тем самым преодолеть его, а, может, просто разнервничавшись, рвет цветы. Пощечины. Крики. И наконец, любовное смятение, потому что стоит ей дотронуться до мужчины, как все ее оборонительные жесты превращаются в ласку. Кулак, занесенный для удара, разжимается, пальцы нежно прикасаются и гладят. Перед настоящим самцом слабым педикам не устоять. Стоило Секу Горги чуть потереть, почти не касаясь, бугор, который образовывал под брюками его гигантский член, чтобы они, и те и другие, уже не могли отстать от него, он притягивал их, как магнит металлическую стружку, сам того не желая. Дивина была достаточно сильной физически, чтобы за себя постоять, но ее смущали оборонительные жесты, ведь они были мужскими, и еще она стеснялась гримас, появляющихся на лице от напряжения. Она стыдилась этого и еще стыдилась мужских эпитетов в отношении себя. На арго ни она, ни ее подруги не говорили. Заговорить на арго было бы для нее столь же дико, как пронзительно хулигански засвистеть или держать руки в карманах брюк (да еще отбрасывая при этом назад полы расстегнутого пиджака) или подтянуть штаны, помогая себе движением бедер.
У педерастов был свой особый язык. Арго - это для мужчин. Это язык самцов. Как мужской язык островитян Карибского моря, арго стал вторичным половым признаком. Как цветистое оперенье птиц-самцов или пестрые одеяния из шелка, которые имеют право носить только воины племени. Он был как гребешок и шпоры. Всем понятно, но говорить на нем могли только мужчины, которые при рождении получили в дар жесты, бедра, ноги, руки, глаза, грудь, то есть все необходимое для того, чтобы на нем говорить. Как-то в одном баре, когда Мимоза отважилась вставить в свою речь реплику: "Он чернуху лепит", мужчины тут же нахмурили брови, а один угрожающе произнес:
- Эта девка корчит крутую.
Арго в устах их мужчин производил на педерастов сильное впечатление. Но все-таки искусственные слова этого языка будоражили их меньше, чем выражения, которые "коты" украли из обихода нормальных людей и которые, попав в сточную канаву или в их постель, были приспособлены ими для своих таинственных, извращенных, противоестественных нужд. Например, они говорили: "Так ловко" или еще: "Встань и ходи". У говорившего эти последние слова, позаимствованные из Евангелия, на губах всегда виднелись прилипшие крупинки жеваного табака. Фраза произносилась тягуче, нараспев и обычно завершала рассказ о каком-нибудь похождении, которое удачно закончилось:
- Встань... - говорили "коты". И еще, отрезая:
- Проехали.
И еще: "Притухнуть". Но для Миньона слова имели совсем другой смысл, чем для Габриэля (солдата, который должен появиться, о чем возвещает хотя бы уже эта фраза, которая кажется мне восхитительной и которая, по-моему, только ему одному и подходит: "Плачу я"). Миньон понимал: нужно держать ухо востро. Габриэль думал: нужно заткнуться. Разве у меня в камере два котяры только что не сказали: "Ну что, возляжем в наших дворцовых покоях?" Они хотели сказать, что собираются стелить постели, а меня вдруг нечто вроде блестящей идеи превратило в дворцового сторожа или конюха с расставленными ногами, который, подобно некоторым молодым людям, "возлегающим с цыпочками", "возлегает с дворцовыми пажами".
Дивина же просто сознание теряла от наслаждения, слушая их речь или различая - при этом ей казалось, что она расстегивает ширинку, засовывает руку под рубашку, - различая отдельные яванские слова со вставленными слогами, похожие на наряд травести-Арго отправил своих тайных посланцев в отдаленные французские деревни, и даже Эрнестина познала его прелесть.
Сама себе она говорила: "Голуаз, цигарка, папироска". Она падала в кресло и, глотая тяжелый сигаретный дым, шептала эти слова. Чтобы об этой ее слабости никто не узнал, она закрывалась в комнате, поворачивала задвижку и курила. Однажды поздно вечером, войдя, она увидела, как в глубине комнаты горит огонек сигареты. Она перепугалась, как будто на нее было наведено дуло пистолета. Но страх был недолгим и сменился надеждой. Не в силах сопротивляться тайно присутствующему в комнате самцу, она сделала шаг, другой и рухнула в кресло, но в тот же миг огонек погас. Она поняла, что с порога видела в зеркале напротив отделенное от нее темнотой комнаты отражение огонька собственной сигареты, которую, с наслаждением чиркнув спичкой, она зажгла в темном коридоре. Можно сказать, что именно в тот вечер был заключен ее настоящий брак. Ее супругом стало то, что объединяет всех мужчин: сигарета.
Сигарета еще сыграет с ней злую шутку. Как-то она шла по главной улице деревни, а навстречу ей, с недокуренной сигаретой в уголке рта и посвистывая, шел молодой негодяй, один из тех, чьи лица я вырезал из журналов. Поравнявшись с Эрнестиной, он опустил голову так, что можно было подумать, что он исподтишка косится на нее, и Эрнестина решила, что он смотрит на нее с "бесцеремонной заинтересованностью", а на самом деле его движение было вызвано тем, что ему всего-навсего в глаза попал дым от собственной сигареты. Он прищурил глаза, скривил рот, и это было похоже на улыбку. Эрнестина приосанилась, быстро взяла себя в руки и сдержалась. Инцидент так ничем и не закончился, потому что в тот -момент этот деревенский хулиган, который даже и не видел Эрнестину, вдруг почувствовал, что его рот расплывается в улыбке, а глаз подмигивает, тогда лихим движением он подтянул штаны, как бы показывая, что его гримасы не были случайностью.
Были и другие выражения, которые потрясали ее, хотя вас они могли бы смутить и в то же время удивить странным сочетанием слов: "Горы и чудеса" или еще почище: "Утащить за яйца в Тартар" Эти выражения ей хотелось просвистеть или станцевать, как яву. Думая о своем кармане, о самой себе, она говорила: "Мой подвал."
В гостях у подруги: "Прикинь", "Она получила на орехи". О привлекательном прохожем: "Он от меня тащится".
Не подумайте только, что это от нее Дивина унаследовала свою любовь к арго. Эрнестина ни разу не дала застигнуть себя врасплох. Неосторожного "скукожиться" в прекрасных устах было достаточно, чтобы и для матери, и для сына тот, кто это произнес, превратился в ворчливого коренастого коротышку, с бульдожьим лицом, как у молодого английского боксера Крана, который тоже висит у меня на стене.
Миньон ходил бледный. Он ограбил розового голландца. Но зато карманы его набиты гульденами. Теперь обитатели мансарды познали радости безбедного существования. По ночам Дивина и Миньон спят. Днем они обедают дома, голые, переругиваются, забывают заняться любовью, включают радио, радио чего-то бормочет, они курят. Миньон чертыхается, а Дивина, желая еще больше походить на святую Екатерину Сиеннскую, которая провела целую ночь в камере приговоренного к смерти, положив голову на его член, Дивина читает Детектив. За окном дует ветер. В мансарде уютно и тепло от электрообогревателя. Мне хочется дать небольшую передышку, даже немного счастья идеальной паре.
Окно приоткрыто в сторону кладбища.
Пять часов утра.
Дивина слышит, как звонит колокол (ведь она не спит). И звон его – не ноты, звучащие в воздухе, а пять ударов, падающих на мостовую, и вместе с ними на мокрую мостовую падает Дивина, которая три или четыре года назад в этот же час бродила по улицам маленького городка и искала хотя бы хлебной корочки среди отбросов в мусорном баке. Всю ночь она провела под моросящим дождем, прижимаясь к стенам домов, чтобы меньше промокнуть, в ожидании утреннего звона колокола (вот колокол звонит к ранней мессе, и Дивина вспоминает тоску бездомных дней, дней колокола), объявляющего, что церкви открыты для старых дев, кающихся грешников и клошаров. И теперь в благоухающей духами мансарде утренний колокольный звон насильно вновь превращает ее в несчастного бродяжку, пришедшего в церковь послушать мессу, причаститься, дать отдых своим ногам и немного отогреться. Теплое тело спящего Миньона прижалось к ней. Дивина закрывает глаза; и в то мгновение, когда веки ее смыкаются и отделяют ее от мира, который рождается вместе с зарей, начинается дождь, вызывая в ней ощущение такого полного счастья, что она громко и с глубоким вздохом произносит: "Я счастлива". Она собиралась было заснуть, но к ней, утверждая ощущение счастья замужней женщины, возвращаются, и уже без горечи, воспоминания о тех временах, когда она была Кюлафруа и когда, сбежав из дома с шиферной крышей, очутилась в маленьком городке, где золотыми, розовыми или тусклыми утрами клошары, эти существа с наивной на первый взгляд кукольной душой собираются вместе, обмениваясь приветственными жестами, которые хочется назвать братскими. Они только что проснулись и встали со скамеек на аллеях, на площади или выбрались с газонов общественного парка. Они делятся друг с другом секретами Приютов, Тюрем, Конной полиции, Молочник им не мешает. Он свой. За несколько дней Кюлафруа тоже стал здесь своим- Бывали дни, когда он питался несколькими найденными в мусорном баке черствыми горбушками вперемежку с волосами. Однажды вечером он даже хотел покончить собой, так был голоден. Мысли о самоубийстве очень занимали его: песня гарденала, поэма снотворного. Он столько раз стоял на краю смерти, что только каким-то чудом избежал ее, словно чья-то невидимая рука - чья? - отталкивала его от края. Однажды у меня под рукой оказался пузырек с ядом, достаточно было поднести его ко рту и потом ждать. В невыносимой тоске ждать результата невероятного поступка и поражаться тому, что этот безумно-необратимый шаг повлечет за собой конец света. Меня никогда не удивлял тот факт, что самая легкая неосторожность еще даже и не движение или движение не законченное, которое хочешь вернуть и исправить, такое еще близкое и безобидное, что его можно было бы и не заметить - но невозможно! -это движение способно привести, например, на гильотину; но меня, повторю, это не удивляло до того дня, когда я сам, сделав один из таких незначительных жестов, которые получаются у нас против нашей воли и от которых невозможно избавиться, ощутил тоску в собственной душе, тоску несчастного, у которого нет другого выхода, кроме как признаться. И ждать. Ждать и успокаиваться, потому что тоска и отчаяние возможны лишь, если существует видимый или скрытый выход довериться смерти, как Кюлафруа когда-то смог довериться ранее недоступным ему змеям.
Пока что присутствие рядом пузырька с ядом или провода под высоким напряжением ни разу не совпало с периодами помутнения рассудка, но Кюлафруа, и позже Дивина, будут страшиться этого момента, и одновременно готовиться к тому, что это случится очень скоро по воле Рока, и чтобы смерть все равно явилась следствием их решения или их отвращения к жизни.
Это были прогулки без цели, бессонными ночами по черным улицам города. Он останавливался и заглядывал в окна на залитые золотистым светом интерьеры через гипюр занавесей с вышитыми цветами, акантовыми листьями, амурами, стреляющими из лука, кружевными оленями, и эти интерьеры напоминали ему дарохранительницы, скрытые за занавесками, в массивных и темных алтарях. Перед окнами и по их сторонам на ступенях алтаря фонари, как восковые свечи, выстроились в почетном карауле среди деревьев с еще необлетевшей листвой, на которых распускались букеты лилий эмалевых, металлических, тканевых. Словом, это были обычные выдумки маленького бродяги, в представлении которого мир заключен в магическую сеть, которую они сами ткут вокруг глобуса и завязывают пальцами ловкими и крепкими, как у Павловой [15]. Эти дети умеют быть невидимыми для других. Контролер не разглядит их в вагоне, полицейский на пристани, даже в тюрьмы они, кажется, попадают тайком, как табак, чернила для татуировки, свет луны или луч солнца, или как звуки фортепьяно. Малейший жест служит им подтверждением того, что хрустальное зеркало, которое их кулак покрывает серебристыми паутинками, заключает в себе целый мир домов, ламп, люлек, крещений, - мир людей. Ребенок, о котором идет речь, был настолько далек от всего этого, что от времени своих скитаний он, кажется, удержал в памяти лишь одну мысль: "В городе у женщин в трауре красивые туалеты". Но в своем одиночестве он может умиляться при виде чужих мелких неприятностей: присевшая на корточки старушка, внезапно застигнутая ребенком, обмочила черные хлопчатобумажные чулки; а стоя перед окнами еще не заполненных посетителями ресторанов, взрывающихся яркими огнями, хрусталем и серебром, он, затаив дыхание, наблюдает сцены из трагедий, которые гарсоны во фраках, театрально обмениваясь репликами и обсуждая вопросы первенства, разыгрывали до прихода первой элегантной пары, ломающей своим появлением все действо; или педерасты, которые, заплатив ему только 50 сантимов, сбегали полные счастья, которого им хватит на целую неделю; на больших вокзалах он из зала ожидания ночами наблюдал, как мужские тени в свете печальных огней прожекторов пересекают бесчисленное множество рельсов. У него болели ноги и плечи. Ему было холодно.
Дивина вспоминает эти грустные моменты из жизни бродяги: вот ночью на дороге какая-то машина, внезапно осветив его фарами, выставляет напоказ и ему и себе его бедные лохмотья.
У Миньона горячее тело. Дивина вжалась в него. Не знаю, то ли это уже во сне или она еще вспоминает: "Как-то утром (совсем рано, на рассвете) я постучала в твою дверь. Я не могла больше бродить по улицам среди старьевщиков и отбросов. Я искала твою постель, которая была скрыта от меня кружевами, кружева, кружевной океан, кружевной мир. Из самого далекого уголка мира кулак боксера забросил меня в узкую сточную канаву". Именно в этот момент раздавался звон колокола- Теперь она засыпает в кружевах, и их соединенные тела плывут.
Этим утром, после того, как я целую ночь напролет с особой нежностью ласкал мою дорогую парочку, мой сон прерывается грохотом засова, который отодвигал тюремщик, пришедший за мусором. Я встаю и, пошатываясь, бреду к параше, еще не выйдя из странного сна, в котором я сумел получить прощение своей жертвы. Я был погружен в ужас по самый рот. Ужас входил в меня. Я жевал его- Я был полон им. Он, моя юная жертва, сидел рядом со мной и свою голую левую ногу, вместо того, чтобы положить на правую, подсунул под ляжку. Он ничего не сказал, но я совершенно точно знал, что он думает: "Я все сказал судье, ты прощен. К тому же я буду присутствовать на судебном заседании. Ты можешь признаться. И быть уверенным: ты прощен." И тут же, как это обычно и бывает во снах, он превратился в маленький труп -не крупнее фигурки с рождественского пирога, не крупнее вырванного зуба - лежащий на дне бокала с шампанским среди греческого пейзажа с витыми обломками колонн, вокруг которых обвиваются и развеваются, как серпантин, длинные белые черви; и все залито светом, который бывает только в сновидениях. Я уже не припоминаю, где был я при этом, но знаю, что поверил его словам. С пробуждением ощущение того, что меня простили, не прошло. Но о том, чтобы вернуться в мир реальных ощущений, в мир камеры, об этом нет и речи. Я снова ложусь до времени, когда разносят хлеб. Атмосфера ночи, запах, который идет от параши, полной дерьма и желтой воды, поднимают во мне, словно черную землю, подкопанную кротами, воспоминания детства. Одно воспоминание вызывает другое; вся та жизнь, которую я считал подземной и навеки скрытой, выходит на поверхность, на свежий воздух, под грустное солнце, отчего приобретает запах гнили, которым я упиваюсь. Наиболее болезненное воспоминание - это воспоминание об уборной в доме с шиферной крышей. Она была моим убежищем. Жизнь, которую я воспринимал как что-то далекое и запутанное, через темноту уборной и ее запах -- трогательный запах, в котором преобладает аромат бузины и плодородной земли, поскольку уборная находилась в отдаленном углу сада, возле ограды, -- эта жизнь казалась мне особенно приятной, ласковой, легкой, даже слишком легкой, то есть и вовсе лишенной веса. Говоря о жизни, я имею в виду то, что происходило вне уборной, весь остальной мир, который не был моим маленьким закутком из досок, изрешеченных ходами насекомых. Мне казалось, что она немного колеблется, подобно нарисованным снам, в то время как я, в своей дыре похожий на личинку, возвращался к спокойному ночному существованию, и порой у меня возникало ощущение, что я медленно погружаюсь то ли в сон, то ли в озеро, то ли в утробу матери или, что то же, - в кровосмешение - то есть в духовный центр земли. Минуты этого счастья никогда не были для меня минутами счастья светлого, а мой мир никогда не был тем, что литераторы и теологи зовут "небесным покоем". И это хорошо: ведь для меня было бы невыносимо ужасно быть отмеченным Богом, им избранным; я уверен, что, если заболев, я был бы излечен чудом, то не пережил бы этого. Чудо - гнусная вещь: покой, который я искал в отхожем месте и который я буду искать в воспоминаниях о нем, этот покой внушает мне доверие, этот покой приятен.
Иногда начинался дождь, я слышал стук капель по цинковой крыше; тогда мое грустное блаженство, мое угрюмое наслаждение усугублялось еще и ощущением скорби. Я приоткрывал дверь, и вид мокрого сада с побитой дождем зеленью приводил меня в отчаяние. Я часами сидел в этой камере, примостившись на деревянном сиденье; мои душа и тело, добыча запаха и темноты, пребывали в состоянии мистической взволнованности, ибо самая тайная часть существа приходила сюда именно с тем, чтобы разоблачаться, как приходят в исповедальню. Пустая исповедальня таила в себе для меня такую же сладость. На картинках из старых журналов мод, валявшихся там, женщины 1910 года непременно носили муфту, зонтик или платье с турнюром.
Мне понадобилось много времени, чтобы, распознав их, прибегнуть к колдовству этих низменных сил, которые за ноги тянули меня к себе, махали вокруг меня черными крыльями, похожими на ресницы вампиров, и вонзали самшитовые пальцы в мои глаза.
В соседней камере спустили воду. Так как наши унитазы соединены, вода в моем забурлила и еще одна волна запаха захлестнула камеру. Мой твердый член зажат в трусах, и стоит прикоснуться к нему рукой, как он, освобожденный, упирается в простыню, и та сразу приподнимается. Миньон! Дивина! А я здесь один...
Я люблю Миньона особенно нежно, поэтому не сомневайтесь - в конце концов это свою судьбу, истинную или ложную - я то как лохмотья, то как судейскую мантию надеваю на плечи Дивины.
Медленно, но верно я стремлюсь избавить ее от всякого счастья, чтобы сделать из нее святую. Хотя огонь, сжигающий ее, уничтожил тяжелые оковы, ее уже опутывают новые: Любовь. Так рождается мораль, которая, конечно, не является моралью в общепринятом смысле (это мораль под стать Дивине), но все-таки это мораль, со своими понятиями о Добре и Зле. Дивина еще не стоит по ту сторону добра и зла, там, где и должно быть святому. А я, скорее добрый, чем злой, демон веду ее за руку.
Вот "Дивинариана", составленная для вас. Так как я хочу описать несколько произвольно взятых эпизодов, то оставляю читателю самостоятельно разобраться с хронологией описываемых событий, приняв за данное, что на протяжении этой, 1-й главы ей будет от двадцати до тридцати лет.
Дивинариана
Дивина говорит Миньону: "Ты мое безумие".
Дивина скромна. Она отличает роскошь лишь по тайне, которая в ней таится и которая ее пугает. Роскошные отели, словно логово ведьм, держат пленников силой своих чар, и лишь наши заклинания способны высвободить их из мрамора, ковров, бархата, черного дерева и хрусталя. Едва разбогатев благодаря одному аргентинцу, Дивина приобщилась к роскоши. Она накупила кожаных чемоданов с окованными углами, пахнущих мускусом... Семь или восемь раз на дню она садилась в вагон поезда, распихивала свой багаж, устраивалась на подушках, а за несколько секунд до свистка, звала двух или трех носильщиков, выгружалась, брала машину и просила отвезти ее в Гранд-Отель, где останавливалась лишь на время, необходимое, чтобы быстро и роскошно устроиться. Целую неделю она вела жизнь звезды и теперь умеет и ступать по ковру, и говорить с лакеем, и не потеряться среди роскошной мебели. Она приручила волшебство и спустила роскошь на землю. Теперь крутые закругления и завитки на мебели, картинных рамах и деревянных стенных панелях, вырезанные в стиле эпохи Людовика XV, придают особую элегантность ее жизни, которая развертывается перед ней, словно раздваивающаяся дворцовая лестница. А уж когда во взятой напрокат машине она проезжает мимо кованой решетки или выписывает на улице восхитительную петлю, тогда она -- инфанта.
Смерть это не мелочь. Дивина уже боится оказаться застигнутой ею врасплох. Она хочет умереть достойно. Как тот младший лейтенант авиации, который отправлялся на боевой вылет в парадной форме, чтобы смерть, случайно залетев в самолет, обнаружила и запечатлела бы его в образе офицера, а не бортмеханика. Вот и у Дивины всегда при себе засаленный серый диплом о высшем образовании.
-- Он глуп, как пуговица... (Мимоза собирается сказать: от ботинок).
Дивина нежно: от ширинки.
У нее всегда при себе, в рукаве, маленький веер из газа и белой слоновой кости. Когда она произносила слово, которое ее смущало, то с быстротой фокусника вынимала из рукава веер, раскрывала его, и вдруг возникшее порхающее крыло прикрывало нижнюю часть ее лица. Всю ее жизнь веер будет порхать возле нее. Она обновит его у торговца домашней птицей на улице Лепик. Дивина с подругой зашли туда купить курицу. Следом вошел сын хозяина. Глядя на него, Дивина загоготала, подозвала подругу и, засунув палец в гузку курицы, лежащей на разделочном столе, закричала: "О, смотрите же, вот красотка из красоток!" А веер уже порхал возле ее покрасневших щек. Она еще раз влажным взглядом посмотрела на хозяйского сына.
Полицейские задержали Дивину на бульваре, она была немного навеселе. Пронзительным голосом она поет Veni Creator [16]. И каждый прохожий, словно наяву, видит перед собой маленькие пары новобрачных: скрытые под белыми кружевами, они преклоняют колени на вышитой скамеечке для молитвы; а оба сержанта видят себя шаферами на свадьбе у кузины. Однако они все же ведут Дивину в участок. Всю дорогу туда она трется о них, а они, возбудившись, лишь крепче держат ее и нарочно спотыкаются, чтобы лишний раз прикоснуться к ее бедрам своими. Их гигантские члены ожили, они бьют, они колотят, они напирают в отчаянном и кровавом приступе на дверь штанов толстого голубого сукна. Они, как священник в Вербное воскресенье у закрытой двери церкви, требуют открыть ее. А молодые и старые педерасты стоят на бульваре и наблюдают, как Дивину уводят под торжественное свадебное песнопение Veni Creator:
- На нее наденут наручники!
- Как на матроса!
- Как на каторжника!
- Как на роженицу!
Останавливаются буржуа, их много, но никто из них ничего не видит и ничего не понимает, и едва ли их мирное доверчивое настроение испортит такой пустяк:
Дивина, ведомая под руки, и жалеющие ее подруги.
Отпущенная на свободу, назавтра вечером она снова на своем посту на бульваре. Глаз у нее синий и распухший.
- Боже, миленькие мои, я ведь чуть в обморок не упала. Жандармы меня поддержали. Они все меня окружили и обмахивали клетчатыми носовыми платками. Они, как святые женщины, осушали мое лицо. Мое Божественное Лицо: "Придите в себя, Дивина, придите, придите, придите в себя!" Они меня воспевали!
Они отвели меня в темный карцер. На белой стене кто-то (О, этот "кто-то"! Я буду искать его среди мелких строк тяжелых страниц романов с продолжением, населенных восхитительно прекрасными пажами и хулиганами. Я развязываю, расшнуровываю камзол и туфли одного из пажей свиты Жана-Черные Подвязки, потом я отпускаю его, жестокий нож в одной руке, а его напряженный член зажат в другой, он стоит лицом к стене и вот -- полюбуйтесь на этого молодого пленника, невероятно девственного. Он прижимается щекой к стене. От одного поцелуя он начинает лизать поверхность стены, и штукатурка жадно впитывает его слюну. Потом ливень поцелуев. Его движения обрисовывают очертания невидимого партнера, который сжимает его в объятьях и которого не отпускает жестокая стена. Наконец, от тоски и отчаяния, от избытка любви, паж рисует...) нарисовал фарандолу таких... Ах! Милочки, вы только представьте себе и напейтесь, чтобы туда попасть, но я же могу только обрисовать: такое крылатое, вздувшееся, толстое, важное, как амурчик, с роскошными сахарными... А вокруг, милые дамы, самых прямых и крепких из них обвивались клематисы, вьюнки, настурции, и скрюченные "котики". Ах, что за колонны! Камера неслась во весь опор: это какое-то безумие, безумие, безумие!
Милые тюремные камеры! После чудовищной мерзости моего ареста, моих разных арестов, каждый из которых всегда был первым, ибо являлся моему внутреннему зрению в своей непоправимости, со скоростью и блеском головокружительными,. фатальными, после заключения моих рук в стальной кабриолет, блестящий, как драгоценность или теорема, - после этого тюремная камера, которую я теперь люблю, как порок, сама по себе стала мне утешением.
Запах тюрьмы - это запах мочи, формалина и краски. Во всех тюрьмах Европы я узнавал его, и я осознал, что этот запах в конце концов превратится в запах моей судьбы. Всякий раз, попадая туда, я ищу на стенах следы моих предыдущих заключений, а значит - моих предыдущих отчаяний, сожалений, желаний, которые другой заключенный оставил бы за меня. Я исследую поверхности стен в поисках следов, оставленных мне другом. Я не знаю, что такое настоящая дружба, какие следы оставляет на сердце, а иногда и на коже, дружба двух мужчин друг к другу; в тюрьме я иногда хочу испытать именно чувство братской дружбы, но всегда к мужчине обязательно моего возраста, который был бы красив и я бы ему полностью доверял, который был бы сообщником в моих любовных похождениях, в моих кражах, моих преступных желаниях; но это не дает мне представления о такой дружбе, о запахе одного и другого из друзей в их самых интимных местах, потому что я строю из себя в этом случае мужчину, который знает, что таковым не является. Я жду, что на стене проявится какая-то ужасная тайна, убийство или предательство в дружбе или надругательство над Мертвыми, для которой я был бы блистающим склепом. Но я находил лишь какие-то отдельные слова, нацарапанные булавкой на штукатурке, выражения любви или возмущения, а чаще - покорности судьбе: "Жожо де ла Бастож всегда будет любить свою женушку." "Мое сердце к такой-то матери, мой елдак - шлюхам, мою голову -- Дейблеру." Эти наскальные надписи почти всегда являются обращением к женщине или просто стишками, которые известны всем блатным во Франции:
Уголь станет белым-белым,
Белым снегом сажа станет,
Но никогда родной тюряге
Не изменит моя память.
Ах, эти свирели Пана! Они отмечают прошедшие дни!
И наконец: удивительная надпись, выбитая на мраморе под козырьком парадного подъезда: "Тюрьма основана 17 марта 1900 года"; она вызывает в моем воображении кортеж, состоящий из важных чинов, которые торжественно приводят сюда первого заключенного.
Дивина: "Сердце на ладони, а ладонь дырявая, а рука в мешке, мешок закрыт, и сердце мое попалось".
Доброта Дивины. Она полностью и без оглядки доверяла мужчинам с правильными и резкими чертами лица, и густыми, прядью падающими на лоб волосами, и казалось, это доверие согласуется с тем влиянием, которое такие мужчины оказывали на Дивину. Она, с ее живым критическим умом, часто оказывалась обманутой. Она поняла это, вдруг или постепенно, и захотела изменить свое поведение, и интеллектуальный скептицизм в борьбе с сентиментальной услужливостью победил и утвердился в ней. Но ее продолжают обманывать, так как теперь в ней пробудилась всепоглощающая страсть к молодым мужчинам, она чувствует к ним неотвратимое притяжение. Она принимает их признания в любви с иронией в улыбке или в словах, за которой проступают и плохо скрытая слабость (как слабость педерастов перед бугром на штанах Горги), и все ее усилия устоять перед их чувственной красотой (их неприступностью), между тем как они всегда отвечают ей такой же, но только жестокой улыбочкой, как будто вылетев между зубов Дивины, она отскочила от их более острых, более холодных и оттого - более красивых зубов.
Чтобы наказать себя за злобу на злых, Дивина отказывается от своих намерений и начинает унижаться перед сутенерами, а они ничего не понимают. Ее доброта доходит порой до щепетильности. Однажды в полицейском фургоне по дороге из суда, куда Дивина попадала частенько, особенно за кокаин, она
спрашивает соседа-старичка:
- Сколько дали? Он отвечает:
- Трояк. А тебе?
Она, получив только два месяца, отвечает:
- И мне трояк.
14 июля. Повсюду сине-бело-красное. Дивина же одевается в другие цвета из любезности к ним,, всеми позабытым.
Дивина и Миньон. По-моему, это пара идеальных любовников. Из своей зловонной дыры, из-под шероховатой шерсти одеяла, с носом, мокрым от пота, и вытаращенными глазами, оставшись наедине с ними, я смотрю на них.
Миньон - великан, он стоит, чуть согнув и расставив ноги в небесно-голубых штанах с напуском, ноги его закрывают половину земного шара. Он дрочит. Так мощно и так уверенно, что анусы и влагалища надеваются на его член, как кольца на палец. Он дрочит. Так мощно и уверенно, что его мужественность, отмеченная небесами, обретает проникающую силу батальонов белокурых воинов, которые "оседлал [17] нас 14 июля 1940 года; они шли неспешно, серьезно, глядя прямо перед собой, печатая шаг в пыли под солнцем. Но они могут служить лишь для изображения Миньона, изогнувшегося и напряженного. Их гранит не дает им возможности стать "котами" очарованными.
Я закрываю глаза. Дивина: это тысяча соблазнительных форм, вышедших из моих глаз, рта, локтей, колен, не знаю, откуда еще. Они говорят мне: "Жан! Как я рада, что живу в Дивине и вместе с Миньоном!"
Я закрываю глаза. Дивина и Миньон. Для Миньона Дивина - это лишь предлог, случай- Когда ему случалось думать о ней, он пожимал плечами, как бы пытаясь стряхнуть с себя эти мысли, как если бы его мысли были когтистыми
драконами, вцепившимися ему в спину. Но для Дивины Миньон - это все. Она ухаживает за членом Миньона. Она щедро и нежно ласкает его, прибегая к сравнениям, которые, находясь в игривом настроении, используют приличные люди, типа "маленький, малыш в колыбельке, Иисус в яслях, тепленький твой братик", не произносимые ею, тем не менее приобретают свое прямое значение. Ее чувствам они подходят буквально. Член Миньона для нее - это весь Миньон, чистый предмет ее роскоши, предмет ее чистой роскоши. Если Дивина и соглашается видеть в своем мужчине что-то, кроме теплого фиолетового члена, то это значит, что она может проследить его продолжение до самого ануса и обнаружить, что он продолжается и простирается на все остальное тело, что он это и есть возбужденное тело Миньона, оканчивающееся бледным изможденным лицом, с глазами, носом, ртом, ввалившимися щеками, вьющимися волосами, капельками пота на лбу.
Я закрываю глаза под моим занюханным одеялом. Чуть расстегнув штаны, Дивина завершила таинственный ритуал ухода за своим мужчиной. Украшены лентами волосы и член, цветы продеты в петли пуговиц на ширинке (в таком наряде Миньон выходит по вечерам вместе с ней). Вывод: для Дивины Миньон есть не что иное, как великолепное представительство на земле, осязаемый образ или даже -- символ существа (может быть, Бога) или идеи, оставшейся на небе- Они не общаются- Дивину можно сравнить с Марией-Антуанеттой, которой в заключении, если верить моему учебнику истории Франции, волей-неволей пришлось выучить арго, употреблявшееся тогда, в XVIII веке- Бедная милая королева!
Когда Дивина визжит: "Они приволокли меня в суд!", сразу представляешь себе пожилую графиню Соланж в старинном платье с кружевным треном, которую на коленях за связанные вместе руки солдаты тянут по каменным плитам дворца Правосудия.
- Я умираю от любви, - говорит она. Жизнь в ней замирала, но жизнь вокруг нее продолжалась, ей казалось, что она идет навстречу потоку времени и, безумно пугаясь мысли о том, что при такой скорости она дойдет до начала, до Первопричины, она, наконец, начинала делать движения, которые возобновляли биение ее сердца.
И еще о доброте этой безумицы. Она задает вопрос молодому убийце, с которым мы познакомимся позже (Нотр-Дам-де-Флер). Этот вопрос, без всякого на то умысла, причиняет убийце такое страдание, что лицо его мгновенно искажает гримаса. И сразу бросаясь вслед за причиненной ею" болью, чтобы догнать и остановить ее, заикаясь и захлебываясь слюной, которая от переживания становится похожей на слезы, она кричит:
- Нет, нет, это я!
Подруга семьи - самая безумная из всех, кого я там знал, - Мимоза II. Мимоза Великая, Первая, сейчас живет на содержании у одного старика- У нее вилла в Сен-Клу. Она любила Мимозу II, когда та была еще мальчишкой-молочником, и потому оставила ей свое имя. Мимоза II, ничего не поделать, красавицей не была. Дивина пригласила ее к себе на чай. Та пришла к пяти часам. Они с Дивиной поцеловали друг друга в щечку, очень стараясь, чтобы их тела не соприкоснулись. Миньону же она по-мужски пожала руку; и вот она уже сидит на диване, рядом с лежащей Дивиной- Миньон готовит чай, у него свои причуды.
- Как мило, что ты пришла, Мимо, мы так редко видимся.
- Дорогая, это не моя вина. Поверь, я обожаю твое гнездышко. Оно напоминает мне дом сельского священника с видом на парк. Как должно быть приятно иметь в соседях мертвецов!
Действительно, вид из окна был прекрасен. Иногда кладбище освещала луна. Ночью в лунном сиянии оно казалось Дивине, лежащей в постели, светлым и глубоким. Свет был таким сильным, что под травой могил и под мрамором хорошо различалось призрачное шевеление мертвецов. Вид этого кладбища в окаймлении оконной рамы напоминал светлый глаз, мерцающий в красивом разрезе век, или еще лучше: голубой стеклянный глаз, какими бывают глаза светловолосых слепых, лежащий на ладони негра. Оно плыло в танце, вернее - ветер качал траву и кипарисы. Оно танцевало, оно было музыкально, тело его шевелилось, как тело медузы. Кладбище вошло в душу Дивины, подобно тому, как некоторые фразы входят в текст: буква - сюда, буква -- туда. Кладбище было с ней повсюду: и в кафе, и на бульваре, и в тюрьме, и под одеялом, и в уборной. Или даже, если хотите, жило в ней подобно тому, как в Миньоне жил верный и послушный пес, порой придавая взгляду сутенера кротость и грусть собачьих глаз.
Мимоза высовывается из окна, в оконный проем Усопших и, вытянув палец, ищет могилу. Отыскав, вопит:
- А! Мерзавка и потаскуха, наконец-то ты сдохла! Вот она ты, лежишь под холодным камнем, а я хожу по коврам, шлюха!
- Ты что, обалдела? - сказал Миньон, и ругательство чуть было не сорвалось с его губ.
- А я, Миньон, может быть, свихнулась от любви к тебе, ужасный Миньон! Но там в могиле - Шарлотта. Шарлотта там!
Мы рассмеялись, потому что знали, что Шарлотта - это ее дедушка, он похоронен в глубине кладбища, на участке, купленном в вечное пользование.
- Как поживает Луиза? (отец Мимозы). И Люси? (мать) - спросила Дивина.
-- Ах, Дивина, не спрашивай, они превосходно себя чувствуют. Они-то не сдохнут, прошмандовки! Негодяйки!
Миньон любил послушать педерастов. Особенно ему нравилось, как они наедине рассказывают ему о себе. Заваривая чай, он слушал, улыбка не сходила с его губ. Улыбка Миньона никогда не бывала застывшей. Постоянное беспокойство, казалось, заставляло его щуриться. Больше обыкновенного он беспокоился сегодня; вечером он должен будет бросить Дивину. Поэтому Мимоза кажется ему сейчас ужасной, прямо-таки волчицей. Дивина ничего не знает о том, что ее ждет. Лишь потом она вдруг поймет, что ее бросили и почему такой злобной была Мимоза. Они ловко провернули это дело. Роже, мужчина Мимозы, уехал в Грив.
- Она отправилась воевать, эта Роже. Она вообразила себя амазонкой.
Так однажды Мимоза сказала Миньону, и тот, шутя, предложил ей заменить Роже. Ну, она и согласилась.
Наши семьи, законы нашего Дома не похожи на ваши. Здесь любят без любви. Любовь не носит сакраментального характера. Педерасты в высшей степени безнравственны. Не моргнув глазом, после шести лет союза, не считая себя связанным и не думая о том, что поступает дурно и причиняет зло, Миньон решил бросить Дивину. Без угрызений совести, лишь немного беспокоясь, как бы Дивина не отказалась с ним видеться.
Что касается Мимозы, то ей, чтобы ощутить счастье от содеянного зла, достаточно причинить его сопернице.
Два педераста щебетали, в сравнении с игрой их глаз, их речи казались самыми заурядными. Они не хлопали ресницами, не морщили веки. Просто глазное яблоко скользило справа налево, слева направо, вращаясь так, как будто его приводила в движение целая система шарикоподшипников. Теперь послушаем, о чем они шепчутся;
толстокожий Миньон уже подошел к ним и, стоя рядом, предпринимал титанические усилия, чтобы их понять.
Мимоза шепчет:
- Душенька, Они мне нравятся, когда Они еще в брюках. Смотришь на Них, и Они твердеют. С ума можно спятить, с ума спятить! Ах, эта складка! Она не кончается, она тянется до самых ступней! Прикоснешься и ведешь по ней рукой до пальцев ног, как Красотка спускается, говорят. И для этого особенно рекомендую тебе моряков.
Миньон едва заметно улыбался. Он знает. Толстая Красотка мужчин его не волнует, но теперь он больше не удивляется . тому, что она волнует Дивину или Мимозу.
Мимоза говорит Миньону:
- Ты изображаешь хозяйку, чтобы не сидеть с нами.
Он отвечает:
- Я готовлю чай.
Как бы поняв, что этих слов недостаточно, он добавляет:
- У тебя есть новости от этого типа, от Роже?
-- Нет, - отвечает Мимоза, -- Я Вся-Одинокая. Ей бы хотелось прибавить: Я Вся-Измученная. Желая выразить чувство, которое обычно сопровождается излишне взволнованным жестом или интонацией, педерасты ограничиваются словами: "Я Вся-Вся", произнесенными доверительным голосом, почти шепотом, подчеркивая эти слова движением руки в перстнях, дабы успокоить невидимую бурю. Человек, знакомый, еще со времени Мимозы Великой, с дикими проявлениями необузданных чувств, дерзкими жестами и воплями, от которых кривится рот, загораются глаза, обнажаются зубы, -этот человек не может не спросить себя, какая таинственная нежность сменила те неистовые страсти? Если Дивина начинала свою "молитву", она останавливалась, лишь полностью обессилев. В первый раз, когда он это услышал, Миньон застыл в изумлении. Пока они были у себя в комнате, ему это казалось забавным, но когда Дивина продолжила это уже на улице, он сказал:
- Эй, девка, заткнись! Нечего меня позорить перед друзьями.
Холодность его слов говорила о готовности на самые крайние меры, и Дивина узнала Голос своего Учителя. Она сдержалась. Но ведь прекрасно известно, что нет ничего опасней, чем подавление собственных эмоций. Как-то вечером, за стойкой в баре, где собирались "коты", на площади Клиши (обычно Миньон из осторожности ходил туда без нее), Дивина заплатила по счету и, взяв сдачу, забыла оставить на стойке чаевые. Заметив это, она издала такой вопль, что в баре чуть было не треснули зеркала и не полопались лампочки, ее крик потряс "котов":
- Боже мой, я Вся-Ненормальная!
Две оплеухи справа и слева с безжалостной быстротой заставили ее замолчать, низведя ее до размера левретки, так что ее голова уже не доходила до стойки. Миньон был вне себя. В свете неоновой лампы он казался зеленым. "Пошла вон", - прошипел он. Сам же остался допивать свой коньяк.
Эти крики (Миньон сказал бы: "Она роняет свои крики", как думал, сидя на толчке: "Ты роняешь свои плоды" или, воруя: "Ты подбираешь бабки") были одной из привычек, перенятых Дивиной у Мимозы I. Когда они, несколько девочек, собирались на улице или в кафе для педерастов, из их болтовни (слов и жестов) раскрывались целые букеты цветов, среди которых они вели себя самым естественным образом, обсуждая заурядные домашние проблемы:
- Я вся, вся, вся Вся-Бесстыжая.
- Ах, сударыни, какая я потаскуха.
- Ты зна-а-а-а-ешь (звук "а" они тянули очень долго), я Вся-В-Тоске.
- Смотрите, смотрите, какая прошла, Вся-Шелестящая.
Как-то на бульваре полицейский инспектор спросил одну из них:
"Ты кто?"
Она ответила: "Я - Вся-Трогательная."
Понемногу они сокращали свои реплики, и в конце концов им уже было достаточно произнести:
"Я Вся-Вся", и наконец - "Я В-В."
То же и с жестами. У Дивины было одно движение, когда, достав из кармана платок, ее рука описывала широкую кривую, прежде чем прижать платок к губам. Попытайся кто-нибудь разгадать этот жест, он непременно бы ошибся, ибо тут были сведены воедино два жеста: один, уже потерявший свое первоначальное значение, и другой, который продолжал и завершал первый, возникнув там, где первый прервался. Итак, вынимая руку из кармана, Дивина намеревалась встряхнуть за край развернутый кружевной платок. Встряхнуть на прощание или уронить пудру или флакончик с духами, которых в платке не было, это был повод. А широкий жест был необходим, чтобы поведать о скрытом переживании: "Я одна. Кто может, помогите." Миньон так и не сумел до конца уничтожить этот жест, но сократил его так, что, не опошлившись, тот скрестился с другим и от этого стал необычным. Нарушив его, он сделал этот жест великолепным. Об этих стараниях Миньона Мимоза как-то сказала:
- Наши самцы пытаются сделать из нас каких-то паралитичек.
Когда Мимоза ушла, Миньон тут же попытался найти повод для ссоры с Дивиной, чтобы бросить ее. Не получилось. Это его разозлило, он обозвал ее шлюхой и ушел.
И вот Дивина осталась одна в целом свете. Кого дать ей в любовники? Того цыгана, которого- я ищу повсюду, его фигура благодаря высоким каблукам марсельских сапог похожа на гитару. По его ногам поднимаются, обвиваясь, чтобы равнодушно обнять ягодицы; матросские штаны.
Дивина одна. Со мной. Целый мир стоит в карауле у стен тюрьмы Санте и ничего не знает и не желает знать о смятении, царящем в маленькой камере, затерявшейся среди других, настолько похожих друг на друга, что я часто путаюсь. Время не дает мне отсрочки, я ощущаю его бег. Что мне делать с Дивиной? Если Миньон вернется, то задержится ненадолго. Он познал сладость разрыва. Но Дивина уже не способна жить без потрясений, они сжимают ее, дробят и склеивают вновь, ломают, чтобы в конце концов оставить мне лишь немного ее сущности, что-то вроде эссенции, которую я мечтаю добыть- И вот мсье Роклор (ул. Дуэ, 127, служащий Управления общественного транспорта парижского муниципалитета), около семи часов утра отправляясь в Пти Паризьен за молоком для себя и для мадам Роклор (она в это время расчесывала волосы на кухне), нашел на полу темного подъезда своего дома растоптанный веер. Пластмассовая ручка инкрустирована фальшивыми изумрудами. Он по-мальчишески отфутболил обломки сперва на тротуар, а затем в сточную канаву. Этот веер принадлежал Дивине. В ту самую ночь Дивина совершенно случайно встретила Миньона и пошла с ним, ни словом не упрекнув его в бегстве. Слушая ее болтовню, он что-то насвистывал и, возможно, немного раскаивался. Мимоза застала их вместе. Дивина, приветствуя ее, поклонилась до самой земли, а Мимоза мужским голосом, впервые на памяти Дивины, закричала:
- Пошла вон, грязная шлюха, задница вонючая! Это кричала уже не Мимоза, а мальчишка-молочник. Так бывает, когда вторая натура, не устояв, дает выплеснуться первой, прорвавшейся в приступе бешеной злобы. Мы бы и не заговорили об этом, если бы в подобных случаях не проявлялась бисексуальная натура педерастов. Мы еще встретимся с этим явлением, говоря уже о Дивине.
Дело, однако, принимало серьезный оборот. Миньон проявился в этой ситуации еще и как замечательный трус (я считаю, что малодушие - это активное качество, которое, достигнув определенной степени интенсивности, словно призрак, начинает распространять белое сияние вокруг хорошеньких боязливых подростков, которые медленно, словно по морскому дну, передвигаются в нем). Короче, Миньон не соизволил вмешаться. Руки в карманах:
-- А вы убейте одна другую, - сказал он, посмеиваясь.
Таким же смехом, он до сих пор звенит у меня в ушах, смеялся как-то вечером, стоя передо мной, один 16-летний ребенок. По этому смеху вы легко можете представить себе, что такое сатанизм. Дивина и Мимоза подрались. Прислонившись к стене дома, Дивина наносила короткие удары ногой и махала кулаками (в пустоту) сверху вниз. Мимоза была крепче и била сильнее. Дивине удалось вырваться, но когда она добежала до приоткрытой двери одного из домов, Мимоза настигла ее. Схватка, уже не такая шумная, продолжалась в коридоре. Жильцы спали, консьержка ничего не слышала. Дивина думала: "Консьержка ничего не скажет, ведь ее зовут мадам Мюлл [18]. Безлюдная улица. Миньон стоял на тротуаре, все так же - руки в карманах, и внимательно разглядывал мусор в стоящем рядом баке. Наконец, он повернулся и ушел:
- Ну и сучки!
По дороге он подумал: "Если у Дивины вскочит фонарь под глазом, я ей
вмажу по ее грязной роже. Пидовки проклятые." Но к Дивине он вернулся-
Так Дивина вновь обрела своего "кота" и свою подругу Мимозу и вернулась к прежней чердачной жизни, которая должна продлиться еще пять лет-Мансарда на мертвецах. Ночной Монмартр. Пристанище Стыда. Мы приближаемся к ее тридцатилетию... Моя голова все еще находится под одеялом, пальцы лежат на глазах, мысль потеряна, осталась только нижняя часть тела, отделенная от головы пальцами, вдавленными в глазницы.
Мимо камеры проходит надзиратель; входит в камеру, но ничего не говорит о Боге капеллан; я их уже не вижу, я уже далеко от Санте. А бедная Санте все пытается удержать меня у себя.
Миньон, сам того не ведая, любит Дивину все больше, все глубже. Говоря напрямую, он привязывается к ней. Однако при этом он уделяет ей все меньше внимания. Она остается в мансарде одна, она дарит Богу свою любовь и боль. Ведь Бог - по словам иезуитов - имеет тысячи способов войти в душу: золотым дождем, лебедем, быком, голубкой и кто знает, как еще? Для альфонса, который пошел в уборную, он, возможно, изберет способ, еще не изученный теологами, решив предстать, например, в виде унитаза? Можно задаться и таким вопросом: какие формы принимала бы святость (я не говорю о путях ее спасения) Дивины и всех святых, если бы не существовало церкви. Мы уже знаем, что жизнь Дивины обрела смысл. Она принимает, всю без остатка, жизнь, которую Бог ей дал и которая ведет ее к Нему. Словом, у Бога нет золотого оклада. Перед его мистическим престолом бесполезно принимать пластические позы, столь милые взгляду грека. Дивина сжигает себя. Я бы мог рассказать не хуже ее, что то презрение, которое я сношу с улыбкой или с хохотом, это еще не (и станет ли когда-либо?) презрение к презрению, но я поступаю так, чтобы не казаться смешным и униженным чем-либо и кем-либо, сам себя заранее принижая. И по-другому я бы не смог. Когда я заявляю, что я старая шлюха, никто не сможет меня переплюнуть, я лишаю смысла всякое оскорбление. И тем более невозможно плюнуть мне в лицо. И Миньон, так же, как и вы все, может только презирать меня. Я ночи напролет проводил за этой игрой: вызывая всхлипы, доводя их до глаз и оставляя слезы непролившимися, так что утром я пробуждался с окаменевшими, тяжелыми, больными веками, как от солнечного ожога. Рыдание могло бы пролиться слезами, но оно остается в глазах, давит на веки, как приговоренный - на двери карцера. Именно в такие моменты я особенно отчетливо осознаю размеры моего несчастья. Вот наступает очередь еще одного приступа слез, затем еще одного. Я вновь проглатываю все это и со смехом выплевываю. В такие моменты моя улыбка, -- иные назовут ее хорошей миной при плохой игре, - это не более чем необходимость (которая сильнее всего остального) заставить двигаться мускулы, чтобы высвободить эмоции. В конце концов трагизм ситуации, когда одно чувство вынуждено заимствовать выражение у противоположного, дабы сбить со следа ищеек, достаточно хорошо известен. Чувство рядится в платье своего соперника.
Конечно, великая земная любовь могла бы справиться с этим несчастьем, но Миньон еще не попал в число избранных. Лишь позже появится Солдат, чтобы Дивина смогла получить отсрочку в общем крушении жизни. Миньон - всего лишь жулик ("обаятельный жулик" - так зовет его Дивина), и нужно, чтобы он им и оставался, чтобы сохранить мой рассказ. Только при таком условии он может мне нравиться. Я говорю о нем, как обо всех моих любовниках, о которых я спотыкаюсь и разбиваюсь: "Пусть он будет исполнен равнодушия, пусть он окаменеет от слепого безразличия."
Дивина использует эту фразу, говоря о Нотр-Дам-де-Флере.
Это вызвало у Дивины смех отчаяния. Как расскажет сам Габриэль, один офицер, влюбленный в него, не придумав ничего лучше, чтобы показать свою любовь, его наказывал.
И вот через дверь преступления, потайную дверь, которая ведет на "черную", но роскошную лестницу, торжественно входит Нотр-Дам-де-Флер. Нотр-Дам поднимается по лестнице, как по другим лестницам поднимались многие другие убийцы. Когда он добирается до нужной площадки, ему 16 лет. Он стучит в дверь и ждет. Сердце колотится, ведь он решился. Он знает, что это его судьба и от нее не уйти, он понимает (Нотр-Дам понимает или только кажется, что понимает это лучше, чем кто-либо), что каждое мгновение предопределено его судьбой.и это знание связано с чисто мистическим ощущением, что через убийство, через крещение кровью он станет:
Нотр-Дам-де-Флер. Взволнованный, он стоит перед или за этой дверью, словно жених в белых перчатках... Оттуда спрашивают:
- Кто там?
-- Это я, - шепчет подросток. Дверь доверчиво распахивается и закрывается за ним.
Убить легко, сердце жертвы находится слева, как раз напротив руки, сжимающей оружие, а шея так хорошо помещается между сведенными пальцами. Труп старика, одного из тысяч стариков, которым суждено умереть такой смертью, лежит на голубом ковре- Его убил Нотр-Дам. Убийца. И хотя ни слова не было произнесено, я вместе с ним . слышу, как в его голове звонит колокол, который, должно быть, отлит из всех колокольчиков ландыша, весенних цветов, фарфоровых колокольчиков, стеклянных, водяных или воздушных. Его голова, словно поющая роща. А сам он - украшенная лентами свадьба, которая катится вниз по апрельской дороге, впереди - скрипач, на черных пиджаках -флердоранж. Ему, еще подростку, кажется, что он перескакивает с одной цветочной лужайки на другую, и так - до соломенного тюфяка, в котором старик прятал деньги. Он несколько раз переворачивает, потом вспарывает, встряхивает и потрошит тюфяк, но ничего не находит, ведь нет ничего труднее, чем отыскать деньги после преднамеренного убийства.
- Где он прячет свою фанеру, сволочь? -произносит он громко.
Слова не выговорены, они лишь почувствованы, и выплевываются из глотки перемешанными в кучу. Как хрип.
От одного предмета он переходит к другому. Нервничает. Ломает ногти. Рвет обивку на мебели. Пытается взять себя в руки, останавливается, чтобы отдышаться, и (в тишине) среди этих предметов, утративших всякое значение теперь, когда их привычный хозяин перестал существовать, он вдруг чувствует себя затерянным в чудовищном мире, населенном мебелью и вещами. Его охватывает паника. Он вздувается, как воздушный шар, становясь огромным, способным вместить мир и самого себя вместе с ним, а потом сдувается. Он хочет сбежать. Как можно медленнее. Он уже не думает ни о теле убитого, ни о потерянных деньгах, ни о потраченном времени, ни о. провалившемся деле. Полиция, должно быть, уже выследила его. Скорее уйти. Локтем он опрокидывает стоящую на комоде вазу. Ваза падает, и 20 тысяч франков услужливо рассыпаются у его ног.
Спокойно он открыл дверь, вышел на лестничную площадку, свесился вниз и посмотрел: в глубине тихого колодца между квартирами мерцает гранями стеклянный шар. Затем он спустился на ночной ковер, и в ночном воздухе, со ступеньки на ступеньку, через тишину, подобную тишине космоса - в Вечность.
Улица. Жизнь больше не кажется ему гадкой. На душе легко. Он бежит в маленькую гостиницу, которая оказывается домом свиданий, и снимает комнату. Теперь, чтобы усыпить его, постепенно наступает настоящая, звездная ночь; его немного тошнит от ужасного ощущения: он испытывает физическое отвращение, какое обычно испытывает убийца к жертве в первый час после убийства, об этом чувстве многие мне говорили. Он преследует вас, да? Мертвец сильный. Ваш мертвец вошел в вас: смешался с вашей кровью, течет в ваших венах, сочится из-под кожи, ваше сердце питается им, подобно кладбищенскому цветку, который прорастает из трупов... Он выходит из вас через глаза, уши, рот.
Нотр-Дам-де-Флер хотел бы выблевать своего жмурика. Наступившая ночь не избавляет от страха. Комната пахнет шлюхой. Смердит и благоухает.
Чтобы избавиться от ужаса, как мы уже говорили, надо полностью в него погрузиться.
Рука убийцы сама находит член, тот встает. Убийца ласкает его под одеялом, сперва нежно, с легкостью порхающей птицы, потом стискивает, сжимает и, наконец, кончает в беззубый рот задушенного старика. И засыпает.
Любить убийцу. Мечтать совершить преступление в сговоре с молодым метисом с обложки разорванной книги. Я хочу воспеть убийство, ибо я люблю убийц. Воспеть, ничего не приукрашивая. Не рассчитывая таким образом получить искупление (хотя мне этого очень бы хотелось), мне просто было бы приятно убить. Я скажу во всеуслышание: и особенно убить не старика, а красивого светловолосого мальчика, чтобы после того, как нас соединят словесные узы, которые привязывают убийцу к убитому (один стал им благодаря другому), меня, как замок с привидениями, в дни и ночи меланхолии и отчаяния, посещал бы изящный призрак. Но пусть минует меня этот ужас - разрешиться шестидесятилетним мертвецом или мертвецом-женщиной, не важно, молодой или старой. Я прекрасно могу удовлетворить мою страсть к убийству тайно, любуясь царственным великолепием заходов солнца. Достаточно моим глазам погрузиться туда... Но перейдем к моим рукам. Но убить тебя, Жан, убить. Не в том ли все дело, что я хочу знать, как буду себя вести, глядя, как ты умираешь от моей руки?
Больше, чем о других, я думаю о Пилорже. Его лицо, вырезанное из Детектива, затемняет стену своим ледяным сиянием, сотканным из убитого им мексиканца, из его желания смерти, из его мертвой молодости, из его смерти. Он забрызгивает стену осколками взрыва, который можно описать, лишь столкнув два взаимоисключающих понятия: свет и тьму. Ночь выходит из его глаз и ложится на его лицо, и оно становится похожим на сосны грозовым вечером, на сады, через которые я проходил ночью: легкие деревья, пролом в стене и решетки, потрясающие решетки, украшенные гирляндами решетки. И легкие деревья- О, Пилорж! Твое лицо, как ночной сад, одинокий сад, затерянный в мирах, где вращаются бесчисленные солнца. И эта неосязаемая грусть на всем, словно в саду с легкими деревьями. Твое лицо мрачно, точно тень большого солнца легла на твою душу- Ты, верно, испытал от этого легкий озноб, и тело твое дрожит дрожью еще менее осязаемой, чем падение у твоих ног вуали из тюля, который зовется "тюль-иллюзия", ведь лицо твое покрыто сеточкой микроскопически тонких, легких, скорее нарисованных, чем настоящих, морщин.
Убийца уже вызывает у меня невольное уважение. Не только потому, что он обрел редкий опыт, но потому, что он вдруг подменил собою бога на жертвеннике, будь этот жертвенник из шатких досок или лазурного воздуха. Понятно, я говорю об убийце сознательном, читай - циничном, который осмеливается взять на себя право нести смерть, не взывая ни к каким другим силам; ибо солдат, убивая, не несет ответственности, равно и сумасшедший или ревнивец, или тот, кто знает, что будет оправдан; но лишь тот, кто проклят, кто наедине с собой еще колеблется, прежде чем заглянуть на дно колодца, куда он бросится из любознательности, сложив ноги вместе, в прыжке веселой отваги. Обреченный человек.
Пилорж, дружок, мой мальчик, мой милый, вот и отлетела твоя красивая лживая голова. Двадцать лет. Тебе ведь было двадцать или двадцать два года. И мне тоже!.. Я завидую твоей славе. Ты мог бы, как говорится, пристроить меня в могилу, точно так же, как того мексиканца. За те месяцы, что ты провел в камере, ты нежно выплюнул на мою память всю тяжелую мокроту, скопившуюся в твоей носоглотке.
Мне было бы легко идти на гильотину вслед за другими, за Пилоржем, Вейдманном, Солнечным Ангелом, Соклеем. Впрочем, я и не уверен, что смогу ее избежать, ибо во сне мой мозг заботливо отправляет меня в приятные путешествия по множеству удивительных жизней. Однако порой меня посещает грустная мысль о том, что многие из порождений моего мозга полностью истерлись из памяти, несмотря на то, что они составляли все мое прошлое духовное равновесие. Я даже не помню были ли они вообще, так что случись мне теперь видеть во сне одну из тех жизней, она кажется мне еще непрожитой, и я отправляюсь странствовать по ней, как по морю, и плыву, даже не вспоминая, что десять лет назад я уже садился в эту лодку и она утонула, погрузившись в море забвения. Что за монстры продолжают жить в глубинах моего сознания? Их выделения, их экскременты, их тленные останки, возможно, порождают ростки ужаса или красоты, и те распускаются во мне. Так я познаю очарование бесчисленных драм, ими вдохновленных. Мой мозг не перестает порождать прекрасные химеры, однако ни одна из них до сих пор не смогла обрести плоть. Так и не смогла. Ни разу. Теперь, стоит мне начать грезить, как горло мое пересыхает, отчаяние жжет мне глаза, стыд заставляет опускать голову, и мечта моя вдруг разбивается- Я чувствую, как возможное счастье ускользает от меня, ускользает потому, что я его уже промечтал.
Уныние, приходящее следом, делает меня во многом похожим на потерпевшего кораблекрушение: он, увидев на горизонте парус, уже считает себя спасенным, когда вдруг вспоминает, что на стекле его подзорной трубы был дефект -- запотевший кусочек размером именно с тот самый парус, который, как ему показалось, он разглядел.
И вот мне остается лишь то, о чем я никогда не мечтал, и поскольку я никогда не мечтал о несчастьях, мне не остается переживать ничего другого, кроме несчастий. Даже когда речь идет о смерти, ибо я мечтал о прекрасной, геройской, славной смерти на войне, и никогда - о смерти на эшафоте. Так что она одна мне и остается.
А что нужно мне, чтобы ее заслужить? Почти уже ничего.
Нотр-Дам-де-Флер совершенно не похож на тех убийц, о которых, я говорил. Он был - можно так сказать - убийца невинный. Я возвращаюсь к Пилоржу, образ и смерть которого не дают мне покоя. В двадцать лет ради того, чтобы отнять какие-то жалкие гроши, он убил Эскудеро, своего любовника. Стоя перед судьями, он издевался над ними, разбуженный палачом, он смеялся и над ним;
разбуженный навязчивым видением теплой и ароматной крови Мексиканца, он
засмеялся ему в глаза; разбуженный призраком своей матери, он нежно усмехнулся и ей. Так Нотр-Дам-де-Флер родился из моей любви к Пилоржу, с улыбкой в сердце и на иссиня-белых зубах, улыбкой, которую даже всепобеждающий ужас не сможет с него сорвать.
Однажды, слоняясь без дела, Миньон познакомился на улице с женщиной лет сорока, и та неожиданно влюбилась в него до беспамятства. Женщины, влюбленные в моих любовников, настолько ненавистны мне, что я спешу сообщить: эта женщина припудривала свое толстое красное лицо рисовой пудрой. Это легкое облако пудры на ее лице вызывало ассоциации с семейным абажуром из прозрачного розового муслина. В вульгарной и зализанной привлекательности состоятельной женщины и в самом деле было что-то от абажура.
Миньон шел по улице и курил, и тут как раз навстречу женская душа, сквозь внешнюю неприступность ее проглядывает одиночество, которое цепляется за крючок, заброшенный хитрыми лицемерами. Стоит вам по небрежности оставить незастегнутыми полы вашей нежности, и вот вы уже попались. Вместо того, чтобы держать сигарету между первой фалангой указательного и среднего пальцев, Миньон сжимал ее большим и указательным, прикрывая остальными, подобно тому как мужчины и даже маленькие мальчики, спрятавшись за деревом или в темноте, держат свой "конец", когда мочатся. Эта женщина (в разговорах с Дивиной Миньон называл ее "подстилкой", а Дивина - "этой женщиной") не знала смысла таких манер, да и сама манера поведения во многом была ей незнакома, но тем быстрее она поддалась очарованию. Она сразу поняла, сама не зная как, что Миньон бандит, потому что бандит в ее понимании -это прежде всего самец, у которого "стоит". Она потеряла голову, но было слишком поздно. Ее округлые формы и мягкая женственность уже не производили впечатления на Миньона, успевшего привыкнуть к жестким прикосновениям напряженного члена. Рядом с женщинами он оставался инертным. Пропасть страшила его. И все же он сделал некоторое усилие, чтобы преодолеть отвращение и привязать к себе эту женщину ради ее денег. Он изображал галантную предупредительность. Однако настал день, когда, не выдержав, он признался, что любит одного -немного раньше он бы сказал мальчика, но теперь он должен был говорить - мужчину, ведь Дивина -мужчина, - мужчину стало быть. Дама оскорбилась и назвала его "гомиком". Миньон дал ей пощечину и ушел.
Правда, не желая лишиться десерта - если считать Дивину бифштексом, - он однажды снова пришел встречать свою даму на вокзал Сен-Лазар, куда та каждый день приезжала из Версаля. Сен-Лазар -- это вокзал кинозвезд. Нотр-Дам-де-Флер, еще и уже одетый в легкий, развевающийся, мягкий, до безумия тонкий - как у призрака - костюм из серой фланели (костюм этот был на нем в день преступления и будет в день смерти), пришел покупать билет до Гавра. Уже выходя на платформу, он обронил свой толстый бумажник с двадцатью "штуками". Он почувствовал, что бумажник упал, и обернулся как раз в тот момент, когда его поднимал Миньон. Взглядом спокойным, но выражавшим некую роковую неизбежность, Миньон внимательно рассматривал находку, ведь, хотя он и был настоящим вором, но тем не менее, не знал, как себя вести в такой непривычной ситуации, и копировал поведение чикагских или марсельских гангстеров. Это небольшое наблюдение позволит нам, кроме всего прочего, понять, какую роль играет воображение в жизни мелкого воришки, но, в первую очередь благодаря ему, я лишний раз хочу дать понять всем, что собираюсь окружить себя лишь бездельниками, то есть личностями, ничем не выдающимися, лишенными героизма и, следовательно, благородства. Мои любимые герои – из тех, кого бы вы назвали: низкосортные подонки.
Миньон пересчитал деньги, половину оставил себе и положил в карман, а остальное протянул ошеломленному Нотр-Даму. Они подружились.
Я предоставляю вам самим придумать их диалог. Выберите то, что вам нравится. Можете допустить, что они почувствовали голос крови или что влюбились друг в друга с первого взгляда, или что Миньон по неопровержимым и невидимым для простого глаза приметав разоблачает грабителя... Вообразите себе самые дикие и невероятные вещи. Заставьте замереть всю их тайную сущность, когда они столкнутся в перепалке на арго. Соедините их вдруг в объятиях или в братском поцелуе. Делайте, что вам угодно.
Миньон был счастлив, найдя эти деньги, но совершенно не зная, что сказать, он лишь процедил сквозь зубы: "Без глупостей, приятель." Нотр-Дам был в бешенстве. Но что поделаешь? Близко знакомый с законами, царящими в районе площадей Пигаль и Бланш, он знал, что не следует особенно хорохориться перед настоящим "котом". А у Миньона были налицо все внешние признаки "кота". "Не стоит выступать", - подумал Нотр-Дам. Итак, он потерял свой бумажник, и это увидел Миньон. Вот продолжение: Миньон отвел Нотр-Дама сначала к портному, потом к сапожнику и, наконец, к шляпнику. Там он заказал для них обоих все те мелочи, которые делают мужчину сильным и неотразимо привлекательным: замшевый ремень, мягкую шляпу, шотландский галстук и тому подобное. Потом они сняли номер в отеле на улице Ваграм. Ваграм - бой, выигранный боксерами!
Они жили в полной праздности. Совместные прогулки взад и вперед по Елисейским полям все теснее сближали их. Они спорили о женских ногах.
Их замечания, из-за отсутствия в обоих чувства юмора, не отличались тонкостью. Их ничто не тревожило. Легко и непринужденно они скользили по илистому дну поэзии. Сорванцы, которых озолотила судьба, и для меня было столь же занятно отдать им это золото, как и выслушивать какого-нибудь американского проходимца, который о, чудо! произносит слово "доллар" и говорит по-английски. Усталые, они возвращались в отель и подолгу сидели в больших кожаных креслах в холле. Уже тогда их близость начинала разрабатывать свою алхимию. Торжественная мраморная лестница вела в коридоры, устланные красными коврами. По ним проходили, храня безмолвие. Как-то раз во время большой мессы в церкви Мадлен, глядя на ступающих по ковру священников, при молчавшем органе, Миньон почувствовал, что его тревожит уже один вид этого таинства, глухого и слепого: эти шаги по ковру он узнавал теперь в отеле и, медленно ступая по пушистому ворсу ковра, он думает на своем воровском языке: "В этом, возможно, что-то есть". Ибо речь идет о нижних мессах [19] в глубине коридоров больших отелей, где красное дерево и мрамор зажигают и задувают свечи. Панихида и свадебная служба вместе, в течение всего года, тайно свершаются здесь. Здесь передвигаются, словно тени. Стоит ли говорить, что моя восторженная душа вора не упустит ни малейшей возможности, чтобы ощутить это восхитительное состояние? Чувствовать, как летишь на кончиках пальцев, хотя подошва ставится плашмя! Даже здесь, во Френе, несмотря на математически точную прочность стен, длинные и вонючие тюремные коридоры, которые сами себя кусают за хвост, возвращают в меня душу гостиничной крысы [20], которой мне хочется быть.
Шикарные клиенты проходили перед ними- Они снимали шубы, перчатки, шляпы, пили портвейн, курили "Кравен" и гаванские сигары. Суетился молодой лакей. Приятели казались себе персонажами из какого-нибудь фильма. Соединив в мечте свои поступки, Миньон и Нотр-Дам незаметно для самих себя шли к братской дружбе. Мне стоит многих усилий, чтобы удержаться и не сблизить их еще сильнее, не сделать так, чтобы Миньон одним движением бедра, с полнейшей и бессознательной невинностью и теряя голову от ощущения счастья, глубоко погрузил свой тяжелый гладкий член, блестящий и теплый, как колонна на солнце, в раскрытый в форме буквы "О" рот подростка-убийцы, уничтоженного чувством благодарности!
Так могло бы случиться, но не случится. Миньон и Нотр-Дам, ваша судьба, какой бы суровой я ее ни изобразил, всегда будет неприметно омрачаться тем, что еще могло бы произойти, но не произойдет благодаря мне.
Естественно, однажды Нотр-Дам признался в своем убийстве. А Миньон рассказал о Дивине. Тогда Нотр-Дам сообщил, что его зовут Нотр-Дам-де-Флер. Им обоим понадобилась редкая уступчивость, чтобы без особых потерь выбраться из капканов, расставленных перед их чувством уважения друг к другу. В этой ситуации Миньон проявил всю свою обворожительную деликатность.
Нотр-Дам лежал на диване, Миньон сидел у него в ногах и слушал исповедь. Речь шла об убийстве.
Миньон стал сценой, на которой разыгралась эта глухая безвестная драма. В нем боролись страх оказаться сообщником, дружеская привязанность к этому мальчику и желание, даже страсть, донести. Оставалось только узнать кличку. Наконец, понемногу дело дошло и до этого. Пока произносилось тайное имя, было так тяжко наблюдать за тем, как извивается удивительный красавец убийца, как неподвижные и отвратительные кольца мраморных змей на его спящем лице приходят в движение; и Миньон осознал тяжесть признания настолько глубоко, что спросил самого себя: а не блеванет ли сейчас Нотр-Дам? Он взял обеими руками свесившуюся с дивана руку ребенка.
- Понимаешь, это ребята так меня назвали... Миньон не отпускал руку. Глазами он вытягивал признание.
- Бывает, бывает...
Пока длилась вся эта процедура, Миньон не отрываясь смотрел в глаза друга. Улыбка застыла на его губах: он чувствовал, что малейшее проявление эмоций с его стороны, малейший знак, даже вздох, могут все разрушить... Тогда бы Нотр-Дам-де-Флер "сломался".
И когда наконец в комнате прозвучало это имя, из мельчайших частиц смущенного открывшегося убийцы возник и засветился в сиянии славы алтарь, на котором, утопая в розах, возлежала женщина, сотканная из света и плоти.
Алтарь покачивался на грязной поверхности позора, в который погрузился сам убийца. Миньон притянул его к себе, чтобы крепче обнять. Мне так хочется представить их совсем в других позах, если бы мои видения еще подчинялись моей воле: но днем все нарушается переживаниями, связанными с моим процессом; а вечером, перед сном, реальные предметы и впечатления дня потихоньку покидают мою душу, оставляя меня на краю сна, в полном одиночестве, словно заплутавшегося в бурю путника посреди песчаной равнины. Миньон, Дивина, Нотр-Дам стремглав убегают от меня, унося с собой утешение, которое дает их существование во мне, и они не довольствуются только лишь бегством, они уничтожают себя, растворяются в ужасной непрочности моих видений или, лучше, моего сна и становятся моим сном; они расплавляются в самом веществе моего сна, они составляют его. В тишине я зову на помощь, машу обеими руками моей души, еще более немыми, чем водоросли, но я призываю, конечно же, не какого-то друга, твердо стоящего на земле, а некую кристаллизацию нежности, которая кажется столь прочной, что заставляет меня верить в ее вечность.
Я зову: "Спасите меня! Удержите меня здесь!" Я удираю в кошмарное сновидение, которое проникнет сквозь тьму камер, тьму проклятых, падших душ, рты надзирателей и груди судей, в конце которого меня мучительно медленно заглатывает гигантский крокодил, состоящий из сгустков зловонного тюремного воздуха. Это страх суда.
На мои бедные плечи давят тяжкий груз правосудия, облаченного в судейскую мантию, и тяжесть моей участи.
Сколько всяких агентов полиции и инспекторов, выбиваясь, что называется, из сил, днями и ночами бились, распутывая загадку, которую я им загадал! Я уже считал дело прекращенным, в то время как они продолжали искать, занимаясь расследованием так, что я об этом ничего не знал. Они трудились над делом Жене, шли по фосфоресцирующим следам поступков Жене, трудились надо мной во мраке.
Ловко же мне удалось возвысить эгоистичную мастурбацию до уровня культа! Как только я начинаю это занятие, грязное и противоестественное превращение путает всю правду. Я становлюсь само поклонение. Внешние признаки моих желаний лишь указывают на то, как далеко я ушел из этого мира.
Удовольствие одиночки, благодаря этому жесту ты становишься самодостаточным, интимно обладая другими, а они служат, сами того не ведая, твоему наслаждению, которое даже наяву придает малейшим движениям вид наивысшего безразличия по отношению ко всем прочим, а равно некоторую неловкость, так что если однажды ты уложишь в свою постель какого-нибудь мальчика, тебе кажется, что ты ударился лбом о гранитную плиту.
Долгое время я был вынужден упражнять свои пальцы в воровстве! Неплохо схлопотать чир [21]. Моя добрая, ласковая моя подружка, камера моя! Мое одинокое убежище, я так люблю тебя! Если бы мне пришлось на свободе жить в каком-нибудь другом городе, я бы первым делом отправился в тамошнюю тюрьму поискать "своих" людей, принадлежащих моей расе, а заодно разыскать там и тебя...
Вчера меня вызывал следователь. От запаха "тюремного фургона", в котором меня везли из Санте до Дворца Правосудия, и от запаха карцера мне сделалось дурно; я появился перед следователем белый как полотно.
Уже на пороге кабинета меня охватило уныние, это чувство, несмотря на пыльное и тайное цветение, которое чудилось мне во всяком уголовном деле, внушила мне сломанная скрипка. Дивина тоже видела ее. Так похожая на распятие, она вызвала во мне чувство жалости. Чувство тем более сильное оттого, что я вспомнил и сон, в котором моя жертва меня простила. Судья и в самом деле излучал доброжелательность. Я узнал в его улыбке улыбку моей жертвы из сна и вспомнил или заново осознал, что она сама должна выступать судьей на суде, и я, возможно - нарочно, перепутал ее со следователем, а что касается следователя: зная, что я жертвой прощен, спокойный, уверенный, не той уверенностью, которая рождается логикой, но желанием мира, возвращения к человеческой жизни (это последнее желание заставило Миньона служить полиции, чтобы вновь обрести свое место среди людей и в то же время совершать нечеловеческие мерзости), уверенный, что все забыто, загипнотизированный прощением, я доверчиво ему признался.
Секретарь занес признание в протокол, я подписал.
Мой адвокат был ошеломлен, сражен: - Что ты наделал? Кто обманул тебя? Небо? Небо, обитель Господа Бога и его Сердца?
По подземным переходам Дворца я проделал обратный путь, чтобы вновь оказаться в своей маленькой черной холодной - камере тюрьмы Сурисьер. Ариадна в лабиринте. Самый живой мир и самые нежные люди, они из мрамора. На своем пути я сею опустошение. Перед моим мертвым взглядом проходят города с окаменевшими жителями. Но выхода нет. Невозможно забрать признание назад, аннулировать его, распустить и смотать нить времени, которое его соткало. Бежать? Какая мысль! Лабиринт еще более извилист, чем мотивировки судей. Охранник, который сопровождает меня? Охранник из массивной бронзы, к которому я прикован наручником. Я быстро придумываю способ соблазнить его: встать пред ним на колени, прижаться сначала лбом к его бедру, с благоговением расстегнуть его .синие брюки... Что за чушь! Со мной все кончено. Ну почему я не украл, как собирался, в аптеке тюбик стрихнина, который можно было спрятать, утаить при обыске. И однажды, слишком устав от страны Химер -единственно подходящей для жизни, ибо таково ничтожество человеческих вещей, что "за исключением существа, существующего самого по себе, нет ничего прекрасного за исключением того, чего нет "(Поп) - я бы, отказавшись от ненужного украшения этого события, просто взял бы и отравился. Ведь, друзья мои, мне светит Каторга.
Бывают моменты, когда вдруг понимаешь ускользавший до сих пор полный смысл некоторых выражений. Их проживаешь и шепчешь. Например:
"Я почувствовал, как земля ускользает у меня из-под ног." Эту фразу я читал и произносил тысячи раз, но не чувствовал ее. Достаточно же было при пробуждении десять секунд задержаться на ней в момент, когда меня посетило воспоминание о моем аресте (оставшись от ночного кошмара), чтобы обстоятельства, вызвавшие это выражение из сна, вновь обступили меня и вызвали во мне эту внутреннюю висцеральную жизнь, влекущую в ту же бездну, в какую неизменно падаешь ночью. Прошлой ночью я так и падал. Ни одна протянутая милосердная рука не захотела меня удержать. Несколько утесов, может быть, и протягивали мне свои каменные руки, но при этом так, чтобы я не смог бы за них ухватиться. Я падал. А чтобы оттянуть момент последнего удара - ведь ощущение падения пьянило меня, равно наполняя и безнадежностью и счастьем, и кроме того, страхом пробуждения, возвращения к событиям, отдаляющим удар о дно пропасти, страхом пробуждения в тюрьме в смятении перед самоубийством или каторгой, - я нагромождал катастрофы, несчастные случаи вдоль вертикали пропасти, я призывал невероятные препятствия на пути к конечному пункту. Именно накануне рокового дня влияние еще не развеявшегося сна заставило меня нагромождать все новые и новые, и все одинаково значительные, подробности в смутной надежде, что они отдалят срок расплаты. Я медленно увязал.
И тем не менее, вернувшись в свою 426 камеру, я почувствовал, что прелесть моего поступка околдовывает меня. Первые же шаги, которые я делаю - руки лежат на покачивающихся бедрах -дают ощущение, что в меня проникает идущий следом Миньон. И вот я снова погружен в утешительную прелесть отеля, который все же придется покинуть, потому что 20 тысяч франков не вечны.
За время своего пребывания в отеле Миньон ни разу не появлялся в мансарде. Наша дорогая Дивина умирала от беспокойства, не имея вестей о нем. Он подумал о возвращении, лишь когда у них с Нотр-Дамом кончились деньги. Одетые, как короли-самозванцы, они появились в мансарде, где для убийцы на ковре была устроена постель из ворованных автомобильных чехлов. Он заснул там, рядышком с Дивиной и Миньоном. Когда они появились, Дивина подумала, что она забыта и место ее занято другим. Но нет. Мы увидим дальше, как двух приятелей связало некое подобие инцеста.
Дивина работала на двух мужчин, один из которых был ее мужчиной.
До сих пор она любила только мужчин, которые были сильнее ее, немного старше и мускулистей. Но явился Нотр-Дам, хрупкий и нежный, как цветок, и она влюбилась в него. Что-то новое, вроде ощущения собственной силы, взошло (в растительном смысле, в смысле прорастания) в Дивине. Она ощутила, что становится мужественной. Безумная надежда делала ее сильной, крепкой, смелой. Она чувствовала, как вздуваются ее мускулы и она становится похожей на высеченную из камня статую, подобную микеланджелову рабу. Не напрягая ни одной мышцы, но с внутренней яростью она боролась с собой, подобно Лаокоону, который пытался задушить чудовище. Потом, когда руки и ноги ее обрели плоть, она осмелела и захотела драться по-настоящему, но очень скоро получила на бульваре хороший урок, ведь она, забывая о боевой эффективности своих движений, подходила к ним с мерками чисто эстетическими. При таком подходе из нее в лучшем случае мог получиться более или менее ладно скроенный мелкий хулиган. Ее движения, особенно - удары по корпусу, должны были любой ценой, даже ценой победы, сделать из нее даже не Дивину-драчуна, а скорее некоего сказочного боксера, а иногда - сразу нескольких великолепных боксеров. Мужественные жесты, которым она пыталась научиться, редко встречаются у мужчин. Она и свистела, и руки держала в карманах, но все это подражание было таким неумелым, что казалось, за один вечер она могла предстать одновременно в четырех или пяти разных образах. Зато уж в этом она добилась великолепной разносторонности. Она металась между" девочкой и мальчиком, и на этих переходах, из-за новизны такого стиля поведения, часто спотыкалась. Прихрамывая, она устремлялась вслед за мальчиком. Она всегда начинала с жестов Великой Ветренницы, потом, вспомнив, что, соблазняя убийцу, она должна вести себя по-мужски, обращала их в шутку, и эта двойственность давала неожиданный эффект, превращая ее то в по-обывательски боязливого, робкого шута, то в назойливую сумасшедшую. Наконец, в довершение этого превращения бабы в самца, она сочинила дружбу мужчины к мужчине, чтобы та связала ее с одним из безупречных "котов", о которых уж никак нельзя сказать, что его жесты двусмысленны. Для большей уверенности она изобрела для себя Маркетти. Тут же выбрала для него внешность; в тайном воображении одинокой девушки имелся ночной запас бедер, рук, торсов, лиц, зубов, волос, коленей, и она умела собирать из них живого мужчину, которого наделяла душой, всегда одной и той же, вне зависимости от ситуации такой, какую бы ей хотелось иметь самой. Выдуманный Маркетти тайно пережил с ней несколько приключений, потом как-то ночью она сказала ему, что пресытилась Нотр-Дамом и согласна уступить его ему. Соглашение было скреплено мужским рукопожатием. Видение:
Маркетти притаскивается в тюрьму, руки в карманах брюк:
- Привет, крошка, - говорит он Дивине. Садится, они беседуют, по-мужски, о делах. Приходит Нотр-Дам. Жмет руку Маркетти. Девичья физиономия Маркетти его немного смущает. Я (говорит Дивина про себя), я делаю вид, что больше его не замечаю. Единственное, я уверена, что теперь именно благодаря мне Нотр-Дам сошелся с Маркетти. (У него слишком красивая фамилия, чтобы подыскивать ему еще и имя). Трех минут мне достаточно, чтобы они чувствовали себя здесь как дома. Я усаживаюсь спиной, чтобы не смущать их. Когда я оборачиваюсь, то вижу, что они целуются, а Маркетти расстегивает ширинку. Любовь начинается.
Дивина не возмужала, она постарела. Теперь ее мог взволновать подросток, отсюда у нее и возникло ощущение, что она стала старая, и эта уверенность распускалась в ее душе подобно крыльям множества летучих мышей на ночной стене. Вечером, раздеваясь в мансарде, она новыми глазами увидела свое белое, без единой волосинки, гладкое, сухое, местами костлявое тело. Она устыдилась его и поспешила погасить лампу. Это тело было телом Христа из слоновой кости, как на распятии 18-го века, а даже малейшее сходство с божеством или его изображением было ей отвратительно.
Но вместе с унынием в ней зарождалась и новая радость.
Радость, которая предшествует самоубийству. Дивину пугала ее повседневная жизнь. Душа и плоть ее страдали. Для нее настал сезон слез, так же как мы говорим: сезон дождей. Сотворив ночь поворотом выключателя, ни за что на свете она не сделает шага из постели, где ощущает себя в безопасности так же, как в безопасности она ощущает себя в собственном теле. Внутри она чувствует себя достаточно хорошо защищенной. Вовне же царит ужас. Однажды ночью она все же решилась открыть дверь и ступить на темную лестничную площадку. Плач сирен наполнял лестницу, они звали ее вниз. Точнее, это был не совсем плач или пение, к тому же и не сирен вовсе; но это было явным приглашением к безумству или к смерти, к падению.
Вне себя от страха она вернулась в комнату. Это момент на рассвете, перед тем, как зазвонит колокол. Если страхи пощадили ее теперь, то днем ее поджидало еще одно мучение: она краснела. Из-за всякого пустяка она становилась Ярко-Красной, Пурпурной, Заметной. Не следует думать, однако, что она стыдилась своей профессии. Она слишком хорошо и слишком молодой узнала отчаяние, чтобы умирать от стыда в ее теперешнем возрасте. Называя сама себя старой, развратной шлюхой, Дивина лишь хотела предупредить насмешки и оскорбления в свой адрес. Но она краснела из-за мелочей, которые казались безобидными и которым мы не придаем никакого значения, до тех пор, пока, присмотревшись получше, не осознала, что краска заливает ее лицо в тот момент, когда ее унижают по неосторожности. Пустяк мог заставить Дивину почувствовать себя униженной. Так же, как в бытность ее Кюлафруа, унижение одной только силой слов заставляло ее буквально проваливаться сквозь землю. В применении к ней слова вновь приобретали очарование каменного мешка, в конечном счете пустые и не содержащие ничего, кроме тайны. Закрытые, запечатанные, непроницаемые слова, даже если они раскрываются, их смысл тут же ускользает прыжками, сбивающими с толку. Приворотное зелье, которым является колдовское слово, привело меня к одной старой деве, она готовит кофе, добавляет цикорий и процеживает смесь. По кофейной гуще (это фокус) совершается колдовство. Слово Митридат. Как-то утром неожиданно Дивина его находит. Оно открылось однажды, показав Кюлафруа свои магические свойства, и ребенок, вернувшись, назад от века к веку, до века 16-го, окунулся в эпоху папского Рима.
Бросим взгляд на этот период в жизни Дивины. Так как единственным ядом, который он мог раздобыть, был аконит [22], то каждую ночь, запахнувшись в длинный домашний халат с жесткими складками, он открывал дверь комнаты, выходившей во двор, перешагивал через перила - движением влюбленного, вора, балерины, лунатика, или акробата - и спрыгивал в огород, по краям которого росли кусты бузины, шелковицы и терновника; корень можно было отыскать между грядками овощей, окаймленных резедой и ноготками. Кюлафруа срывал в цветнике лепестки аконита Напель. Измеряя их линейкой, каждый раз увеличивая дозу, он скручивал их и проглатывал. Но яд обладал двойным свойством: убивать и воскрешать из мертвых тех, кого он убил, и он действовал быстро. Через рот. Возрождение завладевало ребенком, как Богочеловек - девочкой, которая, высунув язык, с благоговением проглатывает облатку. Борджиа, Астрологи, Кондотьеры, Порнографы, Принцы, Аббатисы, Циники принимали его обнаженными на своих коленях, жестких под шелковыми одеяниями, он нежно прижимался щекой к напрягшемуся члену, несокрушимо каменному, какими должны быть под перламутровым атласом куртки тела негров-джазистов.
Это происходило в зеленом алькове, предназначенном для веселья, которое завершалось приходом смерти в виде кинжала, надушенных перчаток, отравленной облатки. В свете луны Кюлафруа становился этим миром отравителей, педерастов, жуликов, магов, воинов, куртизанок, а окружающая его природа, огород пребывали тем же, чем были всегда, оставляя его одного, властителя и раба эпохи, ходящим босиком вокруг грядок с капустой и салатом, мимо валявшихся там граблей и лопаты, и вольным вызывать и с гордым видом сносить насмешки. В основе видения не лежали исторические события или литературные сюжеты. При этом достаточно было произнести шепотом несколько магических слов, чтобы мрак сгустился и из него вышел паж или рыцарь, неутомимый самец, растрепанный после ночи в тонких полотняных простынях. Datura fastuosa. Datura stramonium. Belladona.
От ночной свежести, проникавшей сквозь белое одеяние, его охватывала дрожь, он подходил к большому открытому окну, пролезал под перилами, закрывал окно и ложился в огромную кровать. С приходом дня он вновь становился бледным робким школьником, сгибающимся под тяжестью книг. Но не бывает так, чтобы дни не сохраняли от колдовских ночей каких-нибудь следов, подобных синеве под глазами. Эрнестина одевала его в очень короткие штанишки из синей саржи, в длинную черную школьную блузу с белыми фарфоровыми пуговицами на спине; обувала в черные деревянные сабо и чулки из черного хлопка, которые скрывали его едва обозначенные икры. Он носил черное не в знак траура по кому-либо, но вид у него был трогательный. Он относился к типу детей подвижных, вспыльчивых, неистовых даже. Эмоции портят лица, лишают безмятежности их выражение, увеличивают губы, морщат лбы, заставляют брови мелко дрожать и судорожно двигаться. Товарищи прозвали его "Заднюшко [23], и это имя, произносимое в разгар игры, звучало, как пощечина. Но такие дети, как и бродяги, имеют в запасе набор невероятных и удивительных хитростей, благодаря которым перед ними открываются двери уютных и теплых убежищ, где пьют пьянящее красное вино и где тайком любят. Через крышу деревенской школы, как вор, за которым гонятся, Кюлафруа ускользал и среди ничего не подозревающих школьников во время своих тайных увеселений (ребенок - это воссоздатель неба и земли) он встречал Жана-Черные-Подвязки. После уроков он возвращался в свой дом, ближайший к школе, и таким образом избегал участия в языческих таинствах школьников, в четыре часа дня вырывавшихся из-под опеки родителей и учителей. Его комната представляла собой клетушку с мебелью из красного дерева, украшенную цветными гравюрами с осенними пейзажами, на которые, впрочем, он никогда не смотрел, так как на них не было изображено ни одного лица, кроме лиц трех зеленых нимф. Детство отказывается от условности мифов, оно насмехается над раскрашенными феями и декоративными чудовищами; моими феями были гибкий мясник с остроконечными усами, чахоточная учительница, аптекарь, феей был весь мир, отделенный сиянием от недоступного и неприкосновенного существования, и сквозь это сияние я различал лишь жесты, продолжение которых, а значит, и логика и то, на чем она держалась - ускользали от меня, а каждая деталь порождала новый вопрос и, значит, беспокоила меня.
Кюлафруа входил в свою комнату. И вот он уже папа римский в своем Ватикане. Он кладет набитый книгами и тетрадями ранец на соломенный стул, вытаскивает сундук из-под кровати. Там свалены старые игрушки, альбомы с рваными и мятыми гравюрами, облезлый плюшевый медведь, и из этого убежища теней, этой могилы славы, еще дымящейся и сверкающей, он вытаскивает картонную скрипку, которую смастерил сам. От собственной нерешительности он краснеет. Он испытывает унижение более сильное, чем здоровый стыд от плевка в спину, такое же, какое испытывал, когда делал ее - но не когда задумывал ее сделать - всего девять дней назад, из сероватой обложки альбома с гравюрами, куска палки от метлы и четырех нитей белой проволоки - струн. Это была плоская серая скрипка, двухмерная скрипка, из доски и грифа, на которые четыре белые струны были натянуты геометрически точно, ровно до нелепости, не скрипка, а какое-то чудище. Смычком служила ветка орешника, с которой он ободрал кору. Когда Кюлафруа впервые попросил свою мать купить ему скрипку, та никак не отреагировала на просьбу. Она солила суп. Ни одна из этих картин: река, огни, украшенные гербами орифламмы [24], каблук в стиле Людовика XV, паж в голубом трико, скрученная, вывернутая душа пажа – не представилась четко ее взору, однако то беспокойство, которое каждая из них вызвала в ней, погружение в черное чернильное озеро, это беспокойство на миг поместило ее между жизнью и смертью, а когда спустя две-три секунды она пришла в себя, ее охватил нервный озноб, от которого задрожала рука, солившая суп. Кюлафруа не знал, что искривленные формы скрипки волновали его чувствительную мать и что сам он прогуливается в ее снах в компании ласковых кошек, по углам, под балконами, где жулики делят ночную добычу, по улицам, где шпана крутится вокруг газового рожка, на лестницах, скрипящих, как скрипки, с которых заживо сдирают кожу. Эрнестина заплакала от бессилия и бешенства, что не может убить своего сына, ведь Кюлафруа был не тем, кого можно убить, ибо, - мы еще увидим это, -то, что в нем было убито, возрождается вновь: прутья, плетки, порки, пощечины теряют свою власть или, лучше сказать, смысл. Слово "скрипка" не произносилось больше ни разу. Чтобы учиться музыке, то есть чтобы изображать те же жесты, что и какой-нибудь хорошенький мальчишка с журнальной картинки, Кюлафруа сам смастерил инструмент, но он больше не желал произносить перед Эрнестиной слов, начинающихся с "viol" [25]. Сделал он скрипку ночью в страшной тайне. Днем он прятал ее на дне сундука со старыми игрушками. Каждый вечер он доставал ее. Смирившись, он сам учился класть пальцы левой руки на белые струны, следуя советам старого учебного пособия, найденного на чердаке. Каждое такое немое занятие изматывало его. От обманчивого скрипа, который смычок вырывал из струн, душа его покрывалась гусиной кожей. Судорожные паузы-призраки звуков тянули и терзали его сердце. И так - весь урок. Обучение сопровождалось постоянным чувством стыда в сочетании с замкнутостью и смирением, подобными тому чувству, какое бывает у нас в Новый год. Свои тайные желания мы произносим шепотом, как, должно быть, гордые слуги и прокаженные. Поскольку речь идет о жестах, свойственных господам, у нас часто возникает ощущение, будто мы пользуемся их туалетами, чтобы утвердиться. Они нас стесняют, как должен стеснять фрак без шелковых отворотов, который носит ученик метрдотеля. Однажды вечером Кюлафруа исполнил широкий и чрезмерно трагический жест. Жест, который преодолел объем комнаты, вошел в ночь и протянулся до звезд, среди Медведиц и дальше, затем, подобно кусающей собственный хвост змее, он возвратился во мрак комнаты и в ребенка, который там тонул. Он провел смычком от начала до основания медленно и величественно; эта последняя тоска допилила его душу: тишина, мрак и тщетная надежда избавиться от всего, что нависло над ним со всех сторон, привели к тому, что видение рассыпалось. Он уронил руки, отбросил скрипку и смычок и расплакался, как ребенок. Слезы текли по его маленькому гладкому лицу. Он лишний раз понял, что ничего тут не поделать. Магическая сеть, которую он пытался прорвать, вновь сомкнулась вокруг него, заключая его в себе. Опустошенный, он подошел к маленькому зеркалу на туалетном столике и посмотрел на свое лицо, к которому испытывал такую же нежность, какую испытывают к пусть некрасивой, но своей собачонке. Невесть откуда идущая, сгущалась темнота. Кюлафруа не мешал ей. Его интересовали лишь лицо в зеркале и его изменения: яблоки светящихся век, сияние тени, черное пятно рта, всегда освещенный указательный палец, который поддерживал опущенную голову. Он опускал голову, тобы видеть себя в зеркале, и эта поза заставляла его поднимать глаза и рассматривать себя словно исподтишка, как это делают актеры в .кино: "Я мог бы стать великим артистом". Он не сформулировал четко эту мысль; тем не менее ее великолепие заставляло его еще немного опустить голову. "Тяжесть судьбы", - подумал он. На гладкой палисандровой поверхности туалетного столика он увидел мимолетную сцену, по существу похожую на многие другие, которые часто являлись ему: маленький мальчик сидит на корточках под зарешеченным окном темной комнаты, по которой прохаживается он сам, засунув руки в карманы.
Посреди его песчаного детства вдруг рисовались капители. Капители как кактусы под небом. Кактусы как зеленые солнца, сверкающие острыми лучами, смоченными ядом кураре. Его детство - как Сахара, совсем маленькое или огромное - неизвестно, -защищенное светом, запахом и потоком личного обаяния, исходящими от гигантской цветущей магнолии, которая поднимается в небо, глубокое, как пещера, поверх невидимого, но все-таки присутствующего солнца. Это детство сохло на жгучем песке, с мыслью - в какие-то мгновения, быстрые, как стрелы, и такие же тонкие, тонкие, как тот рай, что виднеется между веками монгола, - о невидимой магнолии; эти мгновения были во всем похожи на те, о которых говорит поэт: "Я увидал в пустыне твое разверстое небо..."
Эрнестина с сыном жили в единственном на всю деревню доме, крытом, как и церковь, шифером. Это было солидное строение, сложенное из каменных плит, прямоугольное, разделенное на две части коридором, который раскрывался, как героический пролом в диких скалах: Эрнестина имела приличный доход, оставленный ей мужем, который покончил с собой, бросившись в зеленые воды рва местного замка. Она бы могла жить в роскоши, в окружении многочисленных слуг, среди огромных зеркал и ковров, закрывающих стены до самого позолоченного потолка. Но она отказалась от роскоши и красоты, ибо они убивают мечту. Так же, как и любовь. Когда-то любовь бросила и с силой придавила ее к земле, как борец, привыкший расправляться с другими силачами. В двадцать лет она дала жизнь легенде; когда позже крестьяне будут говорить о ней, они уже не смогут не вспомнить это существо с лицом, перевязанным подобно лицу раненого летчика, лицу Вейдманна, в котором лишь рот и глаза оставались открытыми; лицо, забинтованное газовыми бинтами, а под ними густой слой специального крема, защищавшего ее кожу от солнечного загара, и частичек сена, которое она ворошила летом у своего отца. Но, подобно кислоте, горечь, разъедая, уже прошлась по ней. Теперь она боялась всего, о чем нельзя говорить просто, с непринужденной улыбкой. Этот страх один доказывал опасность возвращения к власти Прожорливой Красоты. Почти все ее привязанности были слабыми, но были и такие, что приковывали и отдавали ее силам, одно прикосновение или только приближение к которым ее потрясало. Это - искусство, религия, любовь, окруженные святостью (ведь над святым, которое, увы, называют духовным, не принято шутить или смеяться: оно исполнено грусти. Если это имеет отношение к Богу, значит, и Бог грустен. Значит, Бог - это понятие связанное с мукой. Значит, Бог есть Зло?), к ним относятся с оберегающей их почтительностью. Среди прочих достопримечательностей деревни был старый феодальный замок, окруженный рвом, из которого доносилось кваканье лягушек; а кроме того - кладбище, дом матери-одиночки и сама мать-одиночка, трехарочный каменный мост, отражавшийся в прозрачной воде, по утрам на нем висел плотный туман, медленно поднимавшийся к перилам. Солнце резало туман на лоскуты, и они на миг повисали на худых черных деревьях, делая их похожими на оборванных цыганят.
Голубые, с острыми углами, плитки шифера, гранитные блоки, стекла высоких окон отделяли Кюлафруа от остального мира. Игры мальчиков, живших за рекой, были для него неведомыми, усложненными математикой и геометрией. В них играли вдоль изгородей, а в роли внимательных зрителей выступали козы и жеребята. Сами же игроки, эти актеры-дети, выйдя за ворота сельской школы, вновь становились погонщиками быков, разоряли птичьи гнезда, лазали по деревьям, косили рожь, воровали сливы. Если они были для Кюлафруа племенем демонов-искусителей (при этом сами они не могли хорошенько разглядеть его, но подозревали о его присутствии), то сам Кюлафруа обладал для них авторитетом, который создавали ему его уединение, изысканность манер, изящество легенды об Эрнестине и, кроме того, шиферная крыша их дома. При всеобщей к нему ненависти не было ни одного мальчика, который не завидовал бы тому, как пострижены его волосы или его элегантному кожаному , портфелю. Дом с шиферной крышей должен был вмещать сказочные богатства, среди которых Кюлафруа имел неоценимую привилегию неторопливо передвигаться, мог позволить себе фамильярно побарабанить пальцами по крышке стола или ручке кресла, или прокатиться по гладкому паркету среди убранства, которое казалось им царским; привилегию улыбаться улыбкой дофина, и даже, возможно, играть там в карты. Кюлафруа, казалось, источал какую-то королевскую таинственность. Принцы слишком часто встречаются среди детей, чтобы сельские школьники могли принимать это всерьез. Но они поставили ему в вину столь явную демонстрацию своего происхождения, что каждый из них тщательно прятал в себе и что оскорбляло их собственное величие. Ведь королевская идея свойственна этому миру, и если человек не обладает ею в силу кровных уз, то он должен приобрести ее и тайно ею гордиться, ради того только, чтобы сохранить уважение к самому себе. Мечты и сны детей пересекались в ночи, и каждый из них овладевал другим без его ведома, насильно (в этом и состояло изнасилование) и почти всецело. Деревня, которую они воссоздавали для собственных нужд и где, как мы уже сказали, дети были монархами, вся была опутана естественными для них обычаями деревни странных ночей, где вечером хоронили мертворожденных младенцев, которых их сестры относили на кладбище в сосновых ящиках, узких и лакированных, как футляр для скрипки; где другие дети бегали по полянкам и прижимались голыми животиками, прикрытыми, однако, лунным светом, к стволам буков и дубов (таких же крепких, как взрослые горцы с короткими толстыми ляжками, на которых трещали кожаные штаны), в тех местах, где была содрана кора, чтобы почувствовать нежной кожей ток весенних соков, где Испанка проходила, высматривая стариков, больных, паралитиков, из глаз которых она вырывала душу, слушая, как они умирают (старики умирают так же, как рождаются дети), держа их в своих руках, а руки ее пощады не знали; деревня, дни которой были не менее странными, чем ночи, когда шествия в праздники Тела Господня или Вознесения пересекали равнину, съежившуюся под лучами полуденного солнца, шествия, состоявшие из девочек с фарфоровыми головами, одетых в белые платья и с искусственными цветами в волосах, детей-певчих из церковного хора, размахивающих на ветру кадилами со следами медной окиси, чопорных женщин в черном или зеленом муаре, мужчин в черных перчатках, несущих восточный балдахин, увенчанный султаном из страусовых перьев, под которым шагал священник с дароносицей в руках. Под солнцем, среди ржи, сосен и люцерны, переворачиваясь в прудах, вверх ногами.
Это было частью детства Дивины. Как и многое другое, о чем мы расскажем позже. А теперь нужно бы вернуться к ней.
Пора уже сказать, что никогда ее любови не заставляли ее бояться гнева Господня, презрения Иисуса или сладкого отвращения Святой Девы, никогда, до тех пор, пока Габриэль не сказал ей об этом, потому что с того момента она обнаружила в себе присутствие семян этих страхов: гнева, презрения, божественного отвращения, Дивина сделала из своих Любовей бога выше Бога, Иисуса и Святой Девы, которому они поклонялись, как все остальные, тогда как Габриэль, несмотря на свой огненный темперамент, от которого часто краснело его лицо, боялся ада, ибо он не любил Дивины.
А кто любил ее, кроме Миньона?
Нотр-Дам-де-Флер улыбался и пел, он пел, как эолова арфа, голубоватый ветерок проходил .сквозь струны его тела; он пел телом: он не любил. Полиция не подозревала его. Он не подозревал полицию. Этому ребенку все было настолько безразлично, что он даже не покупал газет: он шел, куда его вела мелодия.
Дивина думала, что Миньон пошел в кино, а Нотр-Дам промышляет в каком-нибудь большом магазине, однако... Американские ботинки, мягкая шляпа, золотая цепочка, короче говоря, настоящий "кот" - к вечеру Миньон выходил из мансарды, спускался по лестнице и... Тут появляется неизбежный солдат. Откуда он взялся? Возможно, просто вошел с улицы в бар, где сидела Дивина. С каждым поворотом вертящейся двери, подобно часовому механизму на одной из колоколен Венеции, взору являлись то солидный сержант полиции, то изящный паж, то образчик Высокого Гомосексуализма, то есть один из тех "котов", предки которых были завсегдатаями притонов времен мадемуазель Адна, носили кольца в ушах, и между ног которых сегодня, когда они шествуют по бульвару, брызжут, прорываются, резкие свистки.
Габриэль появился. Я вижу еще, как он сбегает по идущей почти вертикально вниз улице, похожий на околдованную собаку, которая как-то появилась на деревенской площади; он, должно быть, столкнулся с Дивиной, когда та выходила из бакалейной лавки, где купила дудочку-сюрприз, и как раз в тот момент колокольчик на стеклянной двери звякнул два раза. Я бы хотел поговорить с вами о встречах. Я полагаю, что момент, который делал или делает их неизбежными, находится вне времени, что от столкновения брызги обдают все вокруг, и пространство и время, но возможно, я и ошибаюсь, ведь для меня важны те встречи, которые я вызываю и навязываю ребятам из моей книги. Может быть, он из тех моментов, что зафиксированы на бумаге, как и множество многолюдных улиц, на которые случайно падает мой взгляд: сладость, нежность ставят их вне мгновения; я очарован, и, не знаю почему, нет ничего слаще этой толкотни для моих глаз. Я отворачиваюсь, потом смотрю снова, но больше уже не нахожу ни сладости, ни нежности. Улица начинает мне казаться угрюмой, как утро после бессонной ночи, ко мне возвращается ясность ума, а с ней возвращается поэзия, которая была изгнана этой поэмой: какое-то юношеское лицо, плохо различимое в ней, осветило толпу, а потом исчезло. Мне открылся Божественный смысл. Итак, Дивина встретила Габриэля. Он прошел мимо, развернув плечи, как стена или скала. Стена эта была не так уж и широка, но от нее на мир обрушивалось столько величия, то есть столько спокойной силы, что Дивине показалось, что он отлит из бронзы; стена тьмы, из которой, расправив огромные крылья, вылетает черный орел.
Габриэль был солдатом.
Армия - это красная кровь, которая течет из ушей артиллериста, это маленький снежный стрелок, распятый на своих лыжах, это спаги, чья лошадь на всем скаку остановилась и замерла на краю Вечности, это принцы в масках и братство убийц в Легионе; это клапан, заменяющий ширинку на штанах матросов, чтобы, всеизвиняющее объяснение, те не цеплялись за снасти во время маневров, это, наконец, сами моряки, которые очаровывают сирен, обвиваясь вокруг мачт, как шлюхи вокруг "котов"; заворачиваясь в паруса, они с хохотом играют ими, как испанка веером, или, засунув руки в карманы, стоя прямо на качающейся палубе, насвистывают самый настоящий вальс голубых воротничков.
- И сирены теряют головы?
- Они мечтают о том месте, где заканчивается сходство между их телами и телами моряков. "Где начинается тайна?" - спрашивают они себя. И именно тогда они и поют.
Габриэль был рядовым пехотинцем, в форме из голубого сукна, толстого, ворсистого. Когда мы узнаем его поближе и станем меньше о нем говорить, мы дадим его портрет. Естественно, Дивина зовет его Архангелом. И еще: "Мой сладкий". Он невозмутимо принимает обожание. Он позволяет себя обожать. Из страха перед Миньоном, из страха его огорчить, Дивина не осмеливается привести солдата в мансарду. Она встречает его вечером на бульваре, где он мило рассказывает ей историю своей жизни, потому что ничего другого не знает. А Дивина:
- Ты рассказываешь мне не о своей жизни, Архангел, а о тайных подземельях моей, которых я сама не знала.
Или вот еще :
- Я люблю тебя так, как будто ты был в моем животе. Или:
- Ты не друг мне, ты - я сама. Мое сердце, или мой член. Моя веточка.
И Габриэль растроганный, но гордый, улыбаясь:
-О!
Когда он улыбался, в уголке губ пенилось несколько деликатных пузырьков белой слюны.
Принц-Монсеньор повстречал их как-то ночью; округлив пальцы рук в кольцо, как аббат во время проповеди, он подмигивает Дивине: "Ишь, нашла!" и исчезает, оставив их вместе.
Все прочие, от Бланш до Пигаль, посылают в их адрес проклятья, благословляя их таким образом.
Стареющую Дивину гложет тревога. Она как несчастная женщина, которая спрашивает себя:
"Полюбит ли он меня? Ах, найти нового друга! поклоняться ему, стоя на коленях, а он чтобы просто простил меня. Я хочу хитростью привести его к любви." Я слышал о том, что собак приручают, примешивая каждый день к их похлебке ложку мочи хозяина. Дивина решает попробовать. Всякий раз, когда она приглашает Архангела на обед, она находит способ добавить ему в тарелку немного своей мочи.
Заставить полюбить себя. Медленно подводить его, ничего не подозревающего, к этой любви, как к запретному городу, таинственному городу, черно-белому Тамбукту, черно-белому и волнующему, как лицо одного из любовников, на щеке которого играет тень лица второго. Приручить Архангела, заставить его научиться собачьей преданности. Найти ребенка, инертного, но пылкого, затем почувствовать, как от ласк он возбуждается еще сильней, как набухает под моими пальцами, наполняется и проскакивает, как сами знаете что. Дивина любима!
На диване в мансарде она крутится и извивается, как стружка, выходящая из-под рубанка. Ее руки изгибаются, сплетаются и расплетаются, белые, душащие призраков. Нужно было, чтобы однажды она привела Габриэля к себе. Занавески задернуты, он оказывается в темноте, тем более плотной, что здесь настаивался годами, словно застарелый запах ладана, неуловимый экстракт выпущенных газов.
В голубой шелковой пижаме с белыми отворотами Дивина лежала на диване. Упавшие на глаза волосы, бритый подбородок, чистый рот, лицо отполировано охровой водой. Тем не менее она притворилась еще непроснувшейся:
-- Садись.
Рукой указала место рядом с собой на краю дивана, протянула кончики пальцев другой руки.
- Ну, как дела?
Габриэль был в своей небесно-голубой форме. На животе висел плохо затянутый ремень кожаной портупеи.
Грубое сукно и такой нежный голубой цвет! Дивину это возбуждало. Позже она скажет:
- Я "торчала" от его штанов.
Тонкое и такое же голубое сукно подействовало бы на нее менее возбуждающе, чем толстое черное сукно, потому что это ткань деревенских священников и ткань Эрнестины, и толстое серое сукно - ткань приютских детей.
- Эта шерсть не кусается?
- Да ты что? У меня ведь еще рубашка и трусы, шерсть не прикасается к коже.
Удивительно, не правда ли, Дивина, что при небесно голубой одежде он осмеливается иметь такие черные глаза и волосы?
- Кстати, есть шерри, выбирай, что хочешь, и мне тоже налей.
Габриэль, улыбаясь, наливает себе ликер. Пьет. Он снова сидит на краешке дивана. Они немного стесняются друг друга.
- Слушай, здесь душно, можно мне снять куртку?
- О, снимай, что угодно.
Он расстегивает портупею, снимает куртку. Шум снимаемой портупеи превращает мансарду в казарму с потными солдатами, вернувшимися с маневров.
Дивина, я уже говорил, тоже вся в голубом. Она блондинка, под соломенными "волосами лицо ее кажется немного морщинистым; оно, говорит Мимоза помято (Мимоза говорит это со злости, чтобы ранить Дивину), но это лицо нравится Габриэлю. Дивина, которая жаждет в этом убедиться, обращается к нему, трепеща, как пламя свечи:
- Я состарилась, мне скоро тридцать. Габриэль с подсознательной деликатностью не хочет льстить ей ложными утешениями, мол, "по тебе не скажешь". Он отвечает:
- Но это же самый хороший возраст. В этом возрасте во всем разбираешься лучше. Он прибавляет:
- Это настоящий возраст.
Глаза, зубы Дивины сияют, их сияние передается глазам и зубам солдата.
- Ну, конечно, ничего в этом хорошего нет. Он смеется, но я чувствую, он смущен. Она счастлива. Габриэль сейчас вялый, рядом с ней, бледно-голубой: два ангела, уставшие летать, и усевшиеся на телеграфном столбе, но ветер сбросил их в яму с крапивой, они больше не целомудренны.
Однажды ночью Архангел стал фавном. Он держал Дивину перед собой, лицо к лицу, и его член, вдруг став более мощным под ней, пытался проникнуть внутрь. Наконец, найдя, немного согнувшись, он вошел. Габриэль достиг такой виртуозности, что мог, оставаясь сам совершенно неподвижным, придать своему члену дрожь, сравнимую с дрожью разъяренного коня. Он ворвался со своей обычной яростью, и ощущение собственной мощи было столь сильно, что он - горлом и носом - победно заржал - так неудержимо, что Дивина решила, что он вошел в нее всем своим телом кентавра, и лишилась чувств от любви, как нимфа в стволе дерева.
Это повторялось часто. В глазах Дивины появился блеск, а кожа сделалась нежнее. Архангел всерьез играл свою роль самца. При этом он пел Марсельезу, поскольку теперь начал испытывать гордость от того, что был французом, гальским петухом, чем одни только мужчины и могут гордиться. Потом он погиб на войне. Однажды вечером он пришел к Дивине на бульвар:
- Мне дали увольнительную, я попросил ее ради тебя. Пошли пожрем, у меня сегодня есть бабки. Дивина подняла глаза:
- Так ты любишь меня, Архангел? Габриэль раздраженно повел плечами:
- Следовало бы тебе дать по морде, - процедил он сквозь зубы. - Ты что, не видишь?
Дивина закрыла глаза. Она улыбнулась и глухим голосом произнесла:
- Уходи, Архангел. Уходи, я уже насмотрелась на тебя. Ты приносишь мне слишком много радости, Архангел.
Она говорила, как сомнамбула, если бы сомнамбула говорила, прямая, напряженная, с застывшей на лице улыбкой.
- Уходи, иначе я упаду в твои объятья. И прошептала:
- О, Архангел!
Габриэль ушел, улыбаясь, ступая медленно и широко, потому что был в сапогах. Он погиб на войне за Францию, и немецкие солдаты закопали его там, где он упал, у решетки Туренского замка. Дивина могла прийти на его могилу, посидеть там и выкурить по сигарете с Джимми.
Мы видим, как она сидит там, положив одну на другую свои длинные ноги и держа возле губ сигарету - Она улыбается почти счастливой улыбкой.
Войдя в кафе Граффа, Дивина увидела Мимозу, та ее тоже заметила. Они обменялись едва заметным приветственным жестом, так, не жест - пустячок.
- Добрый день! Ну, моя милая, как твоя Нотр-Дам?
- О, не спрашивай меня о ней. Она убежала. Нотр-Дам уехала, улетела. Ее унесли ангелы. Ее у меня украли. Мимо, ты видишь, я Вся-Безутешная. Дай девятидневный обет, я собираюсь постричься в монахини.
- Твоя Нотр-Дам унесла ноги? Она унесла ляжки, твоя Нотр-Дам? Но это безобразие! Ах, потаскуха!
- Забудем, забудем о ней.
Мимоза захотела, чтобы Дивина села за ее столик. Она сказала, что на весь вечер избавилась от клиентов.
- Я в кабаке с воскресенья, да-да. Выпей джина, девочка моя.
Дивине было не по себе. Она не настолько любила Нотр-Дама, чтобы страдать при мысли, что на него донесли, если все равно он совершил преступление; но она помнила, как Мимоза проглотила его фотографию, - так проглатывают облатку, - и как сильно та была задета, когда Нотр-Дам сказал ей: "Ты неряха". Но все же она улыбнулась, вплотную приблизив свою улыбку к лицу Мимозы, как для поцелуя, и их лица вдруг оказались так близко, что им почудилось, будто они присутствуют на собственной свадьбе. Это ужаснуло обоих педерастов. По-прежнему дивно улыбаясь, Дивина прошептала:
- Я тебя ненавижу.
Она не сказала этого. Слова только возникли в горле, и тут же ее лицо снова закрылось, как клевер в сумерки. Мимоза ничего не поняла. Дивина скрывала тот случай со странным причащением Мимозы, она боялась, что, узнав о нем, Нотр-Дам обрадуется и начнет кокетничать с ее соперницей. Нотр-Дам был кокетка почище любого педика. Он был такой же потаскухой, как последний альфонс. Самой себе Дивина объясняла свое поведение желанием избавить Нотр-Дама от греха гордости, ибо Дивине, как известно, больших усилий стоило быть аморальной и удавалось ей это лишь с помощью множества уловок, которые причиняли ей страдания. Ее индивидуальность скована тысячами чувств и их противоположностей, которые переплетаются, распутываются, завязываются, развязываются, порождая безумный беспорядок. Она старалась взять себя в руки. Первой мыслью, пришедшей ей в голову, было: "Мимоза не должна ничего знать; терпеть не могу эту шлюху." Это как бы мысль в чистом виде. В ощущениях Дивины она выглядела несколько по-другому, святые втихомолку следили за ней с небес; Дивина боялась их не потому что они такие грозные и карают за дурные мысли, а потому, что они сделаны из гипса, их ноги утопают в кружевах и цветах, и при этом они всезнающи. Мысленно она говорила: "Нотр-Дам такой гордый. И такой глупый." Это было ясно уже из первого предложения, из которого следовал естественный вывод. Но мораль, которая содержалась в этом выводе, давала ему право быть высказанным. Только расхрабрившись и пересилив себя, она могла сказать: "Эта мерзкая девчонка ничего не узнает" (Мимоза), но даже и в этом случае она прятала свою ненависть под шуточной мишурой, говоря о Мимозе то "она". Скажи Дивина то "он", это было бы гораздо серьезней. Мы увидим это позже. Дивина была не настолько самоуверенной, она понимала, что Мимоза предложила ей сесть не ради того, чтобы наслаждаться ее обществом. Не доверяя Мимозе, она сказала громко:
- Это такой тайный язык.
- Что-что? - не поняла Мимоза. Дивина рассмеялась:
- Да то, что я Глупая Девочка.
Конечно, Роже, мужчина Мимозы, почуял что-то неладное. Он потребовал объяснений. Опыт подсказывал Дивине, что ей не под силу справиться с Мимозой II. Хотя она и не знала, в какие моменты проявляется проницательность ее подруги, зато доказательств детективных способностей, которыми та обладала, у нее было предостаточно. "Мимо получает сведения из ничего." Никто не может лучше ее отличить это "ничего" и заставить его говорить:
- Значит, ты уходишь? И забираешь Нотр-Дам? Ты злюка. И эгоистка.
- Послушай, ангел мой, увидимся позже. Сегодня я спешу.
Дивина поцеловала ладошку и подула в сторону Мимозы (несмотря на улыбку, лицо Дивины вдруг стало важным, как у дамы из Лярусса, которая разбрасывает вокруг себя семена одуванчиков), и удалилась, шагая будто под руку с неким невидимым другим, то есть медленно, устало и отрешенно.
Говоря, что Нотр-Дам гордый и что, узнав о том, как Мимоза съела его фотографию, он почувствует к ней расположение, Дивина ошибалась. Нотр-Дам не был гордым. Он пожал плечами даже без улыбки и просто сказал:
- Эта девка грубо работает. Пусть себе жрет бумагу.
Это безразличие, возможно, было следствием того, что Нотр-Дам не чувствовал так, как чувствует Мимоза, и не представлял себе, что можно испытывать какие-нибудь эмоции, сливаясь в буквальном смысле с образом желанного существа, выпивая его ртом; он был не способен распознать в этом дань уважения его мужественности или красоте. Из чего мы можем сделать вывод, что ему это просто не было нужно. Тем не менее, и мы это увидим, ему нравилось принимать поклонение. Что касается Дивины, заметим, что она однажды ответила Мимозе: "Гордости Нотр-Дам нет предела. Я хочу сделать из него статую гордости", думая при этом: "Чтобы он окаменел от гордости, стал воплощением гордости." Нежная молодость Нотр-Дама, ибо у него тоже бывали моменты нежности, не могла удовлетворить потребность Дивины подчиняться грубой силе. Идеи о гордости удивительно точно сочеталась с идеей о статуе, а с ними обеими - идея о непреклонной твердости. Хотя понятно, что гордость Нотр-Дама была лишь предлогом.
Я уже сказал, что Миньон больше не появлялся в мансарде и даже не встречался с Нотр-Дамом в саду Тюильри. Он не сомневался, что Нотр-Дам знает о его подлостях. В своей мансарде Дивина жила лишь чаем и. печалью. Она ела свою печаль и пила ее. Эта кислая пища иссушила ее тело и разъела душу. Заботы ее о своей внешности, салоны красоты -ничего не помогало ей избавится от худобы и мертвенной бледности. Она носила парик, который прикрепляла с большим искусством, но тюлевая основа его была заметна на висках. Из-под пудры и крема все равно проступала полоска на лбу. Могло показаться, что у нее искусственная голова. Во времена, когда он еще жил в мансарде, Миньон потешался бы над всеми этими ухищрениями, будь он просто "котом", но он был "котом", который слышал голоса. Он не смеялся и даже не улыбался. Он был красив и дорожил своей красотой, понимая, что, лишившись ее, он лишится всего; его оставляли холодным самые прихотливые ухищрения, направленные на то, чтобы привязать его к себе, это его не трогало, не вызывало даже жестокой улыбки. И это естественно. Такое множество старух любовниц красилось перед ним, что он знал, что недостаток в красоте исправляется безо всякого волшебства. В комнатах домов свиданий он был свидетелем умелого восстановления внешности, подмечал колебания женщины с помадой, поднесенной к губам. Много раз он помогал Дивине прикрепить ее парик. Он делал это ловкими и, если так можно выразиться, естественными движениями. Он научился любить такую Дивину. Он проникся всеми уродствами, из которых она состояла, он их рассмотрел: слишком белая и сухая кожа, худоба, ввалившиеся глаза, припудренные морщины, накладные волосы, золотые зубы. Он ничего не упустил. Он сказал себе, - что все это есть, и продолжал любить это. Он узнал наслаждение и увяз в нем. Сильный Миньон, весь мускулистый, поросший теплой шерстью, без ума влюбился в искусственную дешевую пидовку. Уловки Дивины были тут не причем. Миньон бросился очертя голову в этот разврат, но затем понемногу ему стало надоедать. Он потерял интерес к Дивине и бросил ее. И тогда, в мансарде, она познала ужас отчаяния. Старость подталкивала ее к гробу. Она дошла до того, что не осмеливалась на прежние жеманные жесты. Люди, которые знакомились с ней в тот период, говорили, что она старалась быть незаметной. Но она все еще нуждалась в удовольствиях, которые ей приносили постель и церковь; она дошла до того, что искала себе клиентов в туалетах, и даже тогда ей приходилось платить своим любовникам. Во время любви с ней происходили ужасные вещи; так, она напугала одного пылкого мальчика: когда она стояла на коленях, он, то ли теребя ее волосы, то ли слишком резко прижав ее голову к себе, отклеил ее парик. Ее наслаждение было окружено мелкой суетой. Она не выходила из мансарды и занималась там онанизмом. Дни и ночи она проводила, лежа в постели, занавески на окне мертвых, на оконном проеме Усопших были задернуты. Пила чай, ела пирожные. Потом, накрывшись с головой одеялом, она изобретала самые невероятные оргии: вдвоем, втроем или вчетвером, во время которых все партнеры вместе должны были на ней, в ней и для нее получать наслаждение. Она вызывала в себе воспоминания об узких, сильных, крепких, как сталь, бедрах, которые словно пронзали ее с разных сторон. Не заботясь о вкусах партнеров, она заставляла их совокупляться с собой. Она соглашалась быть единственным объектом всех этих брачных игр, и ее рассудок, чтобы принять их всех одновременно, стремился утонуть в сладострастии, стекающемся к нему отовсюду. Ее тело дрожало с головы до ног. Она чувствовала, как сквозь нее проходят незнакомые ей люди. Ее тело кричало:
"Бог, вот Бог!" Она падала обессиленная. Скоро наслаждение ослабело. Тогда Дивина надела на себя тело самца, став вдруг сильной и мускулистой, она видела себя твердой, как сталь, руки в карманах, посвистывающей. Она видела себя совокупляющейся с самой собой. Наконец, она почувствовала, что ее мускулы, как во время того ее опыта с приданием себе мужественности, выступают и твердеют на бедрах, на лопатках, на руках, и расстроилась. И этот огонь тоже угас. Она сохла. У нее даже исчезли круги под глазами.
Именно тогда она вызвала в себе воспоминание об Альберто и им утешилась. Это было ничтожество. Все в деревне сторонились его. Он был вор, грубиян и сквернослов. Девушки морщились, когда при них упоминали его имя; но по ночам, а иногда внезапно во время тяжелой работы они вспоминали его мощные бедра, тяжелые руки, которые раздували карманы и поглаживали его бока, были неподвижны или слабо шевелились, осторожно поднимая натянутую или вздувшуюся ткань брюк. Кисти рук, большие, широкие, короткопалые, с восхитительным большим пальцем, с величественным, мощным холмом Венеры, свисали, как куски дерна. Как-то летним вечером дети, которые обычно приносят потрясающие известия, сообщили в деревне, что Альберто ловит змей. "Змеелов, это ему подходит", -подумали старухи. Это был лишний повод, чтоб" поставить на нем крест. Ученые предлагали заманчивую награду за каждую пойманную живую змею. Случайно, шутя, Альберто поймал одну, доставил ее живой и получил обещанную награду. Так родилось новое звание, которое ему нравилось и одновременно его бесило. Он не был ни сверхчеловеком, ни развратным фавном: это был парень с заурядными мыслями, который умел делать сластолюбие более привлекательным. Казалось, он постоянно пребывает в состоянии наслаждения или опьянения. Кюлафруа неминуемо должен был его повстречать. Летом он шатался по дорогам. Еще издали завидев силуэт Альберто, он понял, что смысл и цель его прогулки именно там. Альберто неподвижно стоял на краю дороги, почти во ржи, будто поджидая кого-то, расставив широко свои красивые ноги, в позе колосса Родосского или в позе, какую нам демонстрировали такие гордые и важные под своими касками немецкие часовые. Кюлафруа он понравился. Проходя мимо с безразличным и храбрым видом, мальчик покраснел и опустил голову, а Альберто с улыбкой на губах наблюдал за ним. Ему было 18 лет, и поэтому Дивина видит, его как взрослого мужчину.
Назавтра он пришел снова. Альберто был там, часовым или статуей, на краю дороги. "Добрый день" - сказал он с улыбкой, искривившей его губы. (Эта улыбка была особенностью Альберто, им самим. Кто угодно мог иметь или приобрести жесткость его волос, цвет его кожи, его походку, но не его улыбку... Когда теперь Дивина ищет исчезнувшего Альберто, она хочет нарисовать его на себе, выдумывая своим ртом его улыбку. Она напрягает мышцы, ей кажется, - она верит, в это, чувствуя, как кривится ее рот, - что эта гримаса делает ее похожей на Альберто, до того дня, когда ей приходит в голову проделать это перед зеркалом. И тут она видит, что ее гримасы не имеют ничего общего с тем смехом, который мы уже как-то назвали звездным.) "Добрый день!" - пробормотал Кюлафруа. Это было все, что они сказали друг
другу, но с того дня Эрнестина вынуждена была смириться с его исчезновениями из дома с шифером. Однажды:
- Хочешь заглянуть в мою корзинку? Альберто указал на маленькую корзину из ивовых прутьев, закрытую и застегнутую на ремешок. В тот день в ней была лишь одна изящная и злобная змея.
- Я открываю?
- О нет-нет, не открывайте, - сказал он, потому что всегда питал непреодолимое отвращение к рептилиям.
Альберто не стал открывать крышку, но зато положил свою жесткую и нежную, в царапинах от колючего кустарника, руку на затылок Кюлафруа, который чуть было не стал на колени. В другой раз там извивались уже три спутанные змеи. На головах у них были надеты маленькие капюшоны из твердой кожи, шнурком завязанные на шее.
- Можешь потрогать, они тебе ничего не сделают.
Кюлафруа не шевелился. Словно повстречав привидение или небесного ангела, он не мог бежать, скованный ужасом. Он даже отвернуться не мог, змеи загипнотизировали его, и в то же время он почувствовал, что сейчас его стошнит.
- Ну, ты что, дрейфишь? Ну, скажи, со мной раньше было то же самое.
Это было неправдой, он хотел успокоить ребенка. Альберто медленно и властно запустил руку в клубок рептилий и вынул одну, длинную и тонкую, хвост которой как хлыст, мгновенно, но бесшумно, обвился вокруг его голой руки. "Потрогай" -- сказал он и одновременно подвел руку мальчика к чешуйчатому и ледяному телу, но Кюлафруа сжал руку в кулак и лишь костяшки пальцев прикоснулись к змее. Это даже не было прикосновением. Холод удивил его. Он вошел ему в кровь, и посвящение состоялось. Покрова спали, но Кюлафруа еще не знал, перед каким изображением: его взгляд не мог этого различить. Альберто взял другую змею и положил ее на голую руку Кюлафруа, она обвилась вокруг точно так же, как и первая.
- Видишь, они не делают тебе ничего плохого (Альберто говорил о змеях в женском роде).
Альберто, восприимчивый подобно его члену, который увеличивается от прикосновения пальцев, чувствовал, как в ребенке поднимается чувство, от которого тот напрягся и задрожал. Благодаря змеям между ними зарождалась скрытая дружба. Однако мальчик еще не прикоснулся к змее, даже не задел ее тела органом осязания, кончиками пальцев, где на них вздувается бугорок, с помощью которого читают слепые. Пришлось Альберто раскрыть его руку и провести ею по ледяному мрачному телу. Это стало откровением. С этого мгновения мальчику стало казаться, что если множество змей заползет, проникнет в него, то он не ощутит ничего, кроме радости дружбы и что-то вроде грусти; а тем временем властная рука Альберто не отпускала его руки, а бедро Альберто продолжало касаться его бедра, и таким образом он уже был не вполне он. Кюлафруа и Дивина, с их утонченным вкусом, всегда будут вынуждены любить то, что им ненавистно, в этом отчасти и проявляется их святость, здесь есть что-то от самоотречения.
Альберто научил его ловить змей. Нужно дождаться полудня, когда змеи застывают на камнях, нежась в лучах солнца. Очень осторожно подходишь к ней, хватаешь за шею, как можно ближе к голове, зажимая голову между двумя фалангами указательного и среднего пальцев, выгнутых так, чтобы она не вырвалась и не укусила, а затем быстро, пока, она свистит от отчаяния, надеваешь на голову капюшон, завязываешь шнурок и кидаешь в ящик. Альберто носил вельветовые брюки, гетры, серую рубашку с закатанными по локоть рукавами. Он был красив, как и все самцы в этой книге, сильные и нежные, но не сознающие собственной прелести. Его жесткие непослушные волосы падали на лицо до самых губ, их одних было достаточно, чтобы придать ему королевское величие в глазах хрупкого замкнутого ребенка. Обычно они встречались около десяти часов утра у гранитного креста. Немного болтали о девочках и отправлялись в путь. Урожай еще не был убран. Жесткие колосья ржи и пшеницы, будучи неприкосновенными для остальных, служили им надежным укрытием. Они растягивались под открытым небом и ждали полудня. Кюлафруа сначала играл с руками Альберто, на следующий день - с ногами, на следующий за двумя первыми - со всем остальным. Дивина увлекается этим воспоминанием, она вновь видит себя втягивающей щеки, словно свистящий мальчишка. Альберто насиловал ребенка со всех сторон, пока сам не рухнул обессиленный. Однажды Кюлафруа сказал:
- Я пошел домой, Берто.
- Иди, тогда до вечера, Лу. Почему "до вечера"? Эта фраза вырвавшаяся у Альберто, прозвучала так непосредственно, что и Кюлафруа она показалась совершенно естественной и он ответил:
- До вечера, Берто.
Однако день кончился, они увидятся лишь завтра, и Альберто это знал. Он глуповато улыбнулся, подумав, что у него вырвалась фраза, которую он и не собирался произносить. Кюлафруа, со своей стороны, не пытался проникнуть в смысл этих прощальных слов. Они взволновали его, как волнуют некоторые простые стихи, логика и грамматика которых становятся нам ясной, лишь когда мы уже насладимся их очарованием. Кюлафруа же был совершенно очарован. В доме с шиферной крышей это был день стирки. На сушилке в саду висели простыни, образуя лабиринт, по которому скользили привидения. Ясно, что Альберто будет ждать его именно там. Но в каком часу? Он ничего об этом не сказал. Ветер колыхал белые простыни, как рука актрисы - декорацию из разрисованной ткани. Ночь сгущалась, с нежностью возводила жесткие постройки из широких поверхностей, заполняла их тенью. Прогулка Кюлафруа началась в тот-момент, когда в небо поднялась шаровидная и дымящаяся луна. Драма должна была разыграться там. Может, Альберто придет, чтобы ограбить их? Ему нужны были деньги "для своей цыпочки", как он говорил. Раз у него была цыпочка, значит, он настоящий петух. Что до ограбления, то это вполне возможно: однажды он уже расспрашивал о меблировке дома с шиферной крышей. Эта мысль понравилась Кюлафруа. Пусть Альберто приходит с такой целью, он все равно будет ждать. Луна поднималась в небо с торжественностью, рассчитанной, чтобы произвести впечатление на людей, которые не спят. Тысячи звуков, которые составляют ночную тишину, теснились вокруг ребенка; словно хор из трагедии, в котором мощь оркестровой меди сопрягается с тайной, витающей в домах, в которых совершаются преступления, и еще тюрем, где - о, ужас! - никогда не слышен звон ' связки ключей. Кюлафруа босиком ходил между простынями. Он переживал эти легкие мгновения, словно танцуя менуэт волнения и нежности. Он даже рискнул сделать балетное па на носках, но простыни, образуя висячие перегородки и коридоры, простыни неподвижные и скрытные как трупы, объединившись, могли его схватить и задушить, как порой поступают ветви некоторых деревьев в жарких странах с неосторожными дикарями, которые отдыхают в их тени. Несмотря на то, что он прикасался к земле лишь легкими шажками, выпрямляя подъем ноги, движения эти могли оторвать его от земли и бросить в мир, откуда он никогда бы не вернулся, в пространство, где бы его ничто уже не остановило. Чтобы крепче держаться на земле, он встал на всю ступню. А танцевать он умел. Из "Киномира" он вырвал картинку: маленькая балерина, снятая в платье из накрахмаленного тюля, с поднятыми руками, ее пуанты, словно острые пики, вонзенные в землю. И под фотографией подпись:
"Грациозная Кети Рафлей, 12 лет." С удивительной интуицией этот ребенок, никогда не видевший ни балета, ни сцены, ни единого актера, понял длинную статью, в которой говорилось о фигурах, антраша, байто-жете, пачках, балетных тапочках, декорациях, рампе, балете. По написанию слова "Нижинский" (Nijinsky) (подъем в N, спуск петли J, прыжок К и падение У, графическая форма имени, которое, кажется, хочет изобразить порыв танцора, который – еще не знает, на какую ногу приземлится) он догадался о легкости артиста, как узнает однажды, что Верлен не может быть ничем иным, как именем поэта-музыканта. Он сам научился танцевать, как сам научился играть на скрипке. Поэтому он танцевал так же, как и играл. Его движения сопровождались жестами, но диктовались они не ситуацией, а всей хореографией, превращавшей его жизнь в вечный балет. Он быстро научился ходить на пуантах и делал это везде: в сарае, собирая дрова, в хлеву, под вишней... Он снимал сабо и танцевал в мягких шерстяных носках на траве, задевая руками нижние ветки деревьев. Он населил поле множеством фигурок, которые были танцовщицами в пачках из белого тюля, оставаясь при этом бледным школьником в черном фартуке, собирающим грибы или одуванчики. Больше всего он боялся, что кто-нибудь застанет его за этим занятием, особенно -Альберто. "Что я ему тогда скажу?" Размышляя над тем, какой способ самоубийства мог бы его спасти, он выбрал веревку. Но вернемся к той ночи. Он удивлялся и пугался малейших движений веток, малейшего порыва ветра. Луна пробила десять часов. Теперь пришло мучительное беспокойство. В своем сердце, в своей груди ребенок обнаружил ревность. Теперь он не сомневался, что Альберто не придет, что он напьется; мысль о предательстве Альберто была столь горькой и так деспотично укоренилась в мозгу Кюлафруа, что он произнес: "Мое отчаяние безгранично". Обычно, когда он был один, у него не было потребности произносить вслух свои мысли, но сегодня глубокое осознание трагичности случившегося обязывало его исполнить необычный протокол, и он произнес: "Мое отчаяние безгранично". Он засопел, но не заплакал. Декорации вокруг утратили чудесный загадочный вид. Ничто не сдвинулось со своего места: это были все те же белые простыни на металлической проволоке, прогнувшейся под их тяжестью, все то же небо, усыпанное блестками, но смысл всего окружающего стал другим. Драма, которая здесь разыгрывалась, достигла сейчас своего самого патетического пика, своей развязки: актеру оставалось лишь умереть. Когда я пишу, что смысл окружающих декораций уже изменился, я не хочу сказать, что декорации были для Кюлафруа, а затем для Дивины, чем-то иным, чем для кого-то другого, а именно - чем-то большим, чем выстиранное белье, сохнущее на металлической проволоке. Он прекрасно понимал, что является пленником простыней, но я прошу вас увидеть в этом и нечто удивительное: пленником обычных, хотя и жестких простыней, при свете луны, - и тем он отличался от Эрнестины, которая, глядя на простыни, тут же воображала парчовую обивку мебели или коридоры мраморного дворца; она, которая шагу не могла ступить по лестнице, не подумав слова "ступенька", в подобных обстоятельствах не преминула бы испытать глубокое отчаяние и заставила бы декорации изменить свое предназначение, превратив их в гробницу из белого мрамора, - возвысив их до собственной боли, прекрасной как склеп; в то время для Кюлафруа ничего не переменилось, и это безразличие декораций еще больше подчеркивало их враждебность. Каждая вещь, каждый предмет были результатом чуда, воплощение которого восхищало мальчика. Равно и каждый жест. Он не понимал слов "комната", "сад" или "деревня". Он не понимал ничего, не понимал даже, что камень - это камень, и его изумление перед тем, что есть декорация, которая в конце концов перестает существовать через свое собственное существование, -- делало его жертвой переплетавшихся в нем простых и примитивных эмоций: боли, радости, гордости и стыда.
Он заснул, как пьяный Пьеро в театре, завернувшись в свои развевающиеся рукава, в траве при свете яркой луны. Назавтра он ничего не сказал Альберто. Ловля змей и отдых во ржи - все было как обычно. Ночью Альберто на миг пришла идея побродить вокруг дома с шифером, руки в карманах .и посвистывая (свистел он чудесно, с металлической пронзительностью и виртуозностью, эта было не последней чертой в его привлекательности. Свист был магическим, он околдовывал девушек. Парни завидовали ему, понимая его власть. Возможно, этим свистом он околдовывал и змей), но он не пошел, ведь поселок относился к нему враждебно, и особенно если он, словно демон, залетал туда ночью. Он лег спать.
Их любовные встречи среди змей продолжались. Дивина вспоминает о них. Она решает, что это была самая прекрасная пора в ее жизни.



