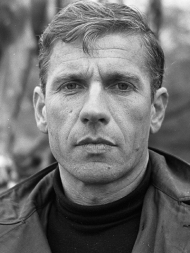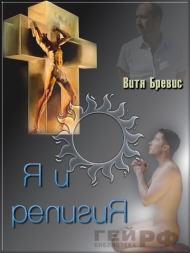Стивен Фрай
Лжец
Главный герой Адриан Хили талантлив, не по возрасту умен и начитан, чертовски привлекателен и абсолютно непредсказуем. Его однокашники по частной элитной школе восхищаются им и его остерегаются, ненавидят и кончают жизнь самоубийством из-за неразделенной любви к нему - в общем, харизма Адриана бесспорна. И все бы ничего, но... "скучно жить на свете, господа", как говорил Н.В.Гоголь, и с чем пытается бороться всеми силами своего изощренного воображения юный Адриан.

Посвящается
(вставить полное имя)
Во всем последующем нет ни единого слова правды
Мужчина в футболке с надписью «Слава»[1] остановился у дома, в котором когда-то родился Моцарт. Он смотрел на дом, и глаза его сияли. Так он и стоял, неподвижно, задрав голову и весь светясь обожанием, пока стайка Линялых Джинсов и Флуоресцентных Бермуд втекала, огибая его, в дом. Потом тряхнул головой, сунул руку в карман штанов и направился к дверям. Высокий тонкий голос, донесшийся сзади, заставил его остановиться на полпути.
– Вы когда-нибудь задумывались, Эйдриан, над феноменом ключей?
– Каких именно, дверных?
– Не дверных, Эйдриан, нет. Отнюдь не дверных. Водных. Подумайте о родниках, кладезях, о вечно бьющих источниках. Иерусалим, к примеру, – это источник религиозности. Один-единственный городишко в пустыне, и тем не менее – источник трех самых могучих религий мира. Столица иудаизма, свидетель распятия Христа, город, откуда Магомет вознесся на небо. Такое впечатление, что религия бьет из его песков ключом.
Футболка «Слава» улыбнулся сам себе и вошел в здание.
Твидовая Куртка и Синяя Оксфордская Сорочка остановились перед крыльцом. Теперь настал их черед благоговейно созерцать людской поток, текущий мимо по Гетрейдегассе.
– Возьмите Зальцбург. Далеко не самый главный город Австрии, и тем не менее Иерусалим для каждого любителя музыки. Гайдн, Шуберт и… о да, потому-то мы и здесь… и Моцарт.
– Существует теория, что Землю пересекают особые линии, и там, где они сходятся, случаются странные вещи,– сказал Синяя Оксфордская Сорочка. – Лей-линии, – по-моему, так их называют.
– Вы можете счесть, будто я тяну одеяло на себя,– произнес Куртка, – но я бы сказал, что тут все дело в немецком языке.
– Войдем?
– Вне всяких сомнений.
Они вступили внутрь темноватого дома.
– Понимаете,– продолжал Куртка, – любые оттенки иронической абстракции, которые язык передать не способен, находят себе выражение в музыке.
– Никогда не считал Гайдна ироничным.
– Возможно, конечно, что теория моя безнадежно ошибочна. Заплатите этой хорошенькой фрейлейн, Эйдриан.
В комнате третьего этажа, там, где шалил маленький Вольфганг, в комнате, чьи стены он расписывал не по годам толковыми решениями арифметических задач, чьи стропила подрагивали от младенческих менуэтов, Футболка «Слава» разглядывал витринки с экспонатами.
Черепаховые и слоновой кости гребни, которыми расчесывались некогда взъерошенные локоны маленького гения, судя по всему, не пробудили в Футболке никакого интереса, равно как и письма, и списки отданного в стирку белья, и детских размеров альты и скрипки. Внимание его целиком и полностью поглотили макеты сценических декораций, висевшие в застекленных ящичках по всем стенам комнаты.
Один из ящичков, похоже, в особенности зачаровал его. Футболка вглядывался внутрь напряженно и подозрительно, словно наполовину побаиваясь, что замершие в ящичке фигурки из папье-маше пробьют стекло, выскочат и двинут его по носу. Он как будто совсем забыл о Линялых Джинсах и Кислотных Шортах, которые толпились вокруг, смеясь и обмениваясь шутками на непонятном ему языке.
Сцена, столь его увлекшая, изображала банкетный зал, посреди которого располагался нагруженный яствами обеденный стол. У стола помещались два маленьких господина – один присел от страха, а другой стоял, упершись в бок рукой, в позе высокомерного презрения. Оба смотрели вверх, на модельку белой статуи, каковая указывала на них обвиняющим перстом итальянского дорожного полицейского или вербовочного плаката военных времен.
Твидовая Куртка и Синяя Сорочка только что вошли в комнату.
– Начните с того конца, Эйдриан, встретимся посередке.
Куртка проследил, как Оксфордская Сорочка перемещается на другой конец комнаты, а затем подошел к ящичку, стекло которого оставалось еще запотевшим от пристального внимания Футболки «Слава».
– Don Giovanni , – сказал Твидовый, подойдя к Футболке, – a cenar teco m ' invitasi , e son venuto . Дон Жуан, ты звал меня к обеду, я здесь.
Футболка по-прежнему не отрывал глаз от стекла.
– Non si pasce di cibo mortale , chi sipasce di cibo celeste , – прошептал он. – Кто обедает на небесах, не нуждается в пище смертных.
– Сколько я понимаю, у вас для меня кое-что есть, – сказал Твидовый.
– «Золотой олень», на имя Эмбури. Небольшой пакет.
– Эмбури? Мидлсекс, Англия? Вот уж не знал, что вас интересует крикет.
– Имя я взял из газеты. Показалось мне очень английским.
– Каковым оно и является. Всего хорошего.
Твидовый отошел и присоединился к Синей Сорочке, уже погрузившемуся в беседу с француженкой.
– Я объяснял леди, – сказал Сорочка, – что, по моему мнению, эти декорации «Волшебной флейты» выполнены Дэвидом Хокни[2].
– Определенно,– подтвердил Твидовый. – На мой взгляд, Хокни присущи два стиля. Неистовый и естественный либо холодный и бесстрастный. Помнится, я заметил однажды, что существуют две разновидности Хокни: Хокни на траве и Хокни на льду.
– Простите?
– Это шутка,– пояснил Синяя Сорочка.– А Твидовый вглядывался в экспонаты.
– Вот это наверняка Царица Ночи.
– По-моему, она самый удивительный из персонажей, – сказала француженка. – А ее музыка… Господи, она просто божественна. Я и сама певица, и сыграть роль Царицы – моя заветнейшая мечта.
– Партия действительно почетная, – согласился Оксфордская Сорочка. – И, как я всегда полагал, очень сложная. Какую немыслимо высокую ноту приходится брать исполнительнице? Верхнее до, не так ли?
Ответ, данный француженкой на этот вопрос, ошарашил не только Синюю Сорочку и его спутника, но и всех, кто присутствовал в комнате. Ибо француженка вперилась в Сорочку округлившимися от испуга глазами, открыла пошире рот и взяла пронзительным сопрано такую чистую и страстную ноту, какой ей никогда уже не удалось повторить за всю ее дальнейшую выдающуюся оперную карьеру.
– Боже милостивый, – сказал Твидовый,– неужели и вправду так высоко? Сколько я помню…
– Дональд! – воскликнул Сорочка. – Взгляните!
Твидовая Куртка обернулся и увидел причину только что прозвучавшего вопля, равно как и других, технически менее совершенных криков, уже летевших отовсюду.
Посреди комнаты возвышался, дергаясь и подпрыгивая, точно марионетка, мужчина в футболке «Слава».
Впрочем, не вульгарность подобного перепляса в подобном месте взбудоражила всех, а вид и бульканье крови, бьющей из его горла пенной струей. Человек этот, подскакивая на месте и перебирая ногами, казалось, пытался, стискивая руками шею, остановить кровь, однако ее напор делал эту задачу неисполнимой.
В такие мгновения время останавливается.
Те, кто потом описывал эту сцену друзьям, психиатрам, священникам, журналистам, все как один говорили о звуке. Одним он представлялся хриплым урчанием, другим – булькающим карканьем; старик в твидовой куртке и его молодой спутник согласились впоследствии, что шипение, с которым бьет из кофеварки струя капуччино, отныне всегда будет напоминать им этот страшный предсмертный сип.
Все запомнили ошеломляющее обилие крови и напор, с которым та прорывалась сквозь пальцы мужчины. Всем запомнился хор возвысившихся в ужасе басов, когда несколько человек, невзирая на красную морось, устремились на помощь дергавшемуся на полу человеку. Все запомнили, как ничто не смогло заградить путь ужасной струе, которая била фонтаном из горла несчастного, погружая на его футболке слова «Я буду жить вечно» в темное пятно. Все запомнили, как долго он умирап.
Но только один из присутствовавших там запомнил необычайно толстого человека с маленькой головой и жидкими волосами, который, покидая комнату, выпустил из ладони нож, скользнувший на пол, точно живая рыбка.
Только один человек увидел толстяка, однако делиться увиденным ни с кем не стал. Он схватил своего спутника за руку и повлек его прочь.
– Пойдемте, Эйдриан. Думаю, нам лучше оказаться в другом месте.
Глава первая
I
Эйдриан проверил орхидею в своей петлице, обозрел гетры, подтянул лавандовые перчатки, разгладил жилет, сунул под мышку черную трость из ротанга, дважды сглотнул и широко распахнул дверь раздевалки.
– Ах, дорогие мои! – воскликнул он. – Поздравляю! Поздравляю вас всех! Триумф, абсолютный триумф!
– Ну а теперь он что за херню на себя напялил? – фыркнул кто-то в дальнем, мглистом конце помещения.
– Ты идиот и задница, Хили.
Беркисс набросил на сверкающий цилиндр Эйдриана кусок фланели. Эйдриан двумя пальцами снял ее.
– Беркисс, если существует самомалейшая возможность того, что эта фланель впитала какую ни на есть из выделяемых тобою секреций, что ею была стерта хоть капелька твоего гнусного лобкового сала, что она коснулась, лаская, хотя бы одного из замаранных уголков твоего омерзительного тела, тогда меня хватит судорога. Прости, но так и будет.
Картрайт невольно улыбнулся. Он проехался по скамье, отодвигаясь подальше, и все же он улыбнулся.
– Ну-с, девушки, – продолжал Хили, – вы непоседливы и резвы, так тому и быть надлежит, однако распускаться я вам не позволю. Я заглянул к вам лишь для того, чтобы поаплодировать вашему совершенно изумительному выступлению и сказать, что кордебалет ваш – воистину лучший в городе, и я намерен угощать вас одну за другой обедом в посольстве в течение долгого и исполненного разнообразных свершений времени.
– Ты лучше скажи, что ты такое нацепил.
– Это называется «каракуль», и, я уверен, вы согласитесь, вещь это редчайшая. Вы несомненно заметите, что она льнет к моему роскошному телу так, точно ее для меня и создали… что относится также и к тебе, о усладительный Хопкинсон.
– Ой, заткнись.
Эйдриан увидел, что Картрайт отвернулся к своему шкафчику – шкафчику, от которого у Эйдриана имелся собственный ключ. Мальчик, судя по всему, с головой ушел в процесс натягивания носков. Эйдриану потребовалось полсекунды, чтобы сделать умственный снимок изящных ступней и божественных лодыжек, облекаемых счастливыми, счастливыми носками, – снимок, который он сможет потом проявить и исследовать, как и другие, уже наклеенные в потаенный альбом его памяти.
Картрайт никак не мог понять, отчего Хили временами бросает на него такие вот взгляды. Он чувствовал их, даже не видя, чувствовал, как эти холодные глаза оглядывают его с жалостью и презрением к тому, кто не обладает столь острым языком, столь едким остроумием, какие присущи всесильному Хили. Но ведь есть же другие мальчики, еще и поглупее, чем он, почему же Хили именно с ним обращается не так, как с остальными? С изящной небрежностью утвердив одну из обтянутых гетрами ног на скамье, тянувшейся посреди раздевалки, Эйдриан поворошил тростью стопку трусов и регбийных шортов.
– Особенно мне понравилась, – сказал он, – та сцена в первом действии, когда вы и девушки из Марлборо выстроились в два ряда, а после вдруг как наброситесь на этот смешной кожаный мячик. Боже, как я смеялся, когда вы позволили кордебалету из Марлборо убежать с ним… ай-ай-ай, а вот это принадлежит кому-то, так и не научившемуся подтирать попу. Бирка с именем тут имеется? Ма-дисон, тебе, знаешь ли, следует уделять больше внимания личной гигиене. Для этого и требуется-то всего два листка туалетной бумаги. Один для подтирки, другой для подчистки. О, как вы бежали вприпрыжку, счастливые вы создания, за нападающими Марлборо. Но только мячика они вам не вернули, так? Все били им о землю, били, пока не перекинули через стойку ваших хорошеньких ворот.
– Это все судья, – сказал Гудерсон. – У него на нас зуб.
– Ну, как бы там ни было, милейший Гудерсон, факт остается фактом: этот дивный дневной спектакль не оставил никаких сомнений – вам предстоит стать всеобщими любимицами города. И могут найтись лишенные совести мужчины, которые станут навещать вас прямо здесь, в вашей гардеробной. Они будут осыпать вас цветами, комплиментами, флакончиками венгерской воды и бутылищами самого дорогого шампанского. Опасайтесь таких мужчин, душечки мои, им нельзя доверять.
– А что, что они нам сделают?
– Они сорвут нежные цветы вашей невинности и растопчут их.
– Это больно?
– Не очень, если приготовиться заблаговременно. Ты приходи нынче вечером ко мне в кабинет, и я подготовлю тебя к этому процессу с помощью успокоительной мази моего собственного изобретения. Только надень что-нибудь зеленое, тебе следует всегда ходить в зеленом, Джарвис.
– Ой, а можно я тоже приду? – спросил Ранделл, справедливо считавшийся общедоступной сахарницей своего пансиона.
– И я! – пискнул Харман.
– Милости прошу всех.
Роберт Беннетт-Джонс рявкнул из-под душа:
– А ну-ка, заткнитесь и одевайтесь, черт бы вас побрал!
– Ты тоже приглашен, Р. Б.-Д., я разве не дал это понять?
Беннетт-Джонс, волосатый и крепкий, вышел из душевой и, тяжело ступая, направился к Эйдриану.
Картрайт уронил в корзинку с предназначенной к стирке одеждой свою регбийную фуфайку и покинул раздевалку, волоча за собою брезентовую сумку. Когда за ним захлопнулась дверь, он услышал резкий баритон Беннетт-Джонса:
– Ты омерзителен, Хили, тебе это известно?
Можно было бы задержаться, послушать великолепную отповедь Хили, да что толку? Говорят, когда Хили только появился здесь, у него были самые высокие отметки, какие новичок получал за всю историю школы. Однажды, в свой первый триместр, Картрайт набрался смелости и спросил Хили, почему он такой умный, как упражняет свой мозг. Хили рассмеялся:
– Память, дорогой мой Картрайт. Память есть мать всех муз… по крайности, так сказал этот, как же его…
– Кто?
– Ну, знаешь, э-э, как его там, – греческий поэт. Он еще «Теогонию» написал… да как же его звали-то? На «Г» начинается.
– Гомер?
– Ничуть, дорогой. Не Гомер, другой. Нет, не могу припомнить. Так или иначе, память – вот ключ ко всему.
Картрайт отправился в библиотеку пансиона и взялся за чтение «Энциклопедии Чеймберза». Пока что он добрался только до Бисмарка.
В раздевалке Беннетт-Джонс рычал в лицо Эйдриану:
– Просто-напросто омерзителен, мать твою. Прочие присутствующие, некоторые из коих гордо выступали по раздевалке, протирая зашейки свернутыми на манер горжеток полотенцами, в виноватом испуге замерли на месте.
– Ты долбаный пидор и всех в пансионе норовишь превратить в долбаных пидоров.
– Я педик? – произнес Эйдриан. – Но Оскара Уайльда тоже называли педиком, и Микеланджело называли педиком, и Чайковского…
– Так они педиками и были, – сказал Сарджент, еще один староста.
– Ну что же, да, это верно, – согласился Эйдриан. – Готов признать, подобному доводу мне противопоставить нечего. Впрочем, я говорю о другом – моя дверь всегда открыта для тебя, Р. Б.-Д, равно как и для тебя, Сарджент, что только естественно, и если кому-то из вас никак не удается поладить со своей сексуальностью, без колебаний приходите ко мне и все расскажите.
– О господи боже…
– Мы вместе подробно обсудим ее. Лично я полагаю, что истоками вашей нездоровой фиксации является присущее вам обыкновение облачаться в шорты и носиться по полю, равно как и эксцентрическая, неотвязная потребность обнимать руками за плечи других участников схватки и просовывать головы между задами тех, кто находится впереди. По-моему, леди слишком много обещает[3].
– Давай вышвырнем его на хер отсюда, – предложил, делая шаг вперед, Сарджент.
– Должен вас предупредить, – сказал Эйдриан, – если кто-нибудь из вас прикоснется ко мне…
– Да? – насмешливо отозвался Беннетт-Джонс. – И что тогда будет?
– Я претерплю грандиозную эрекцию, вот что, и не вините меня за последствия. Она почти наверняка завершится той или иной разновидностью эякуляции, а если кто-то из вас забеременеет, я себе этого никогда не прощу.
Сказанного оказалось достаточным, чтобы все остальные приняли его сторону, а старосты под всеобщий смех ретировались.
– Ну что же, возлюбленные мои, теперь я вас должен покинуть. Я обещал составить сегодня вечером компанию принцессе Деспине. Полагаю, после ужина мы с ней перекинемся в баккара. Ей не терпится отыграть назад изумруды Курзенауэра. Джарвис, у тебя стоит, это до крайности неприятно, кто-нибудь, попрыскайте на него холодной водой. Добрночи, Лу. Добрночи, Мей. Добрночи. Пока. Доброй ночи вам, леди, доброй ночи, милые леди, доброй ночи, доброй ночи[4].
Об английских частных школах можно сказать много хорошего. Мальчики подрастают, тут ничего не поделаешь, а наука пока не отыскала способа им помешать, – так лучше уж сбить их в стадо, и пусть справляются с этой бедой частным порядком. Шесть сотен носителей кожных покровов, усеянных гнойными прыщами, шесть сотен источающих сало скальпов, двенадцать сотен подмышек, из которых прут наружу волосы, двенадцать сотен пораженных грибком внутренних бедер и шесть сотен голов, наполненных бредовыми помыслами о самоубийстве, – лучшее средство защиты от них – это школа.
А потому Эйдриана Хили, как и многих Хили до него, в семилетнем возрасте упрятали – ради блага общества – в приготовительную школу, из которой он, уже двенадцатилетний, перебрался в школу частную и ныне, в пятнадцать лет, стоял, сотрясаемый сумбуром возмужания, на пороге жизни. Любоваться в нем было особенно нечем. Разрушительное воздействие полового созревания сказалось, что было своего рода благословением, не столько на коже его, сколько на разуме. Время от времени на лбу Эйдриана выскакивал большой, увенчанный желтой головкой прыщ или другой высовывал голову черную из потного прибежища на ноздре, однако в общем и целом кожа Эйдриана оставалась достаточно чистой и не выдавала гормонального кризиса и хаоса мыслей, которые в нем бушевали, а глаза – большие и чувственные – позволяли даже счесть его привлекательным. Слишком умный, чтобы экзаменаторам удалось преградить ему путь в шестой класс, слишком неуважительный и бесчестный, чтобы стать старостой, он прочитал и впитал намного больше, чем был способен понять, и потому вел жизнь, построенную на имитации и притворстве.
Его запоры, обложенный язык и дурно пахнущие ноги были не более чем привычными атрибутами школьной жизни, передаваемыми, подобно сленгу и садизму, от поколения к поколению. Эйдриан мог отступать от традиций, но был не настолько глух к правилам достойного тона, чтобы тяготеть к регулярности испражнений или чистоте ног. Доброта натуры помешала ему открыть для себя радости издевательства над однокашниками, а трусость позволяла игнорировать склонность к таковому в других.
Великое достоинство английской частной школы составляет качество даваемого ею образования. Вот и Эйдриан получил изрядное, широкое английское образование в той области знаний, что относилась к его чреслам. Не следует ставить это в заслугу исключительно школьным учителям Эйдриана, хоть некоторые из них не боялись давать ученикам практические наставления, способные согреть сердце каждому, кто считает, что современный учитель слишком небрежен в своем подходе к Телу как целому. И все же, по большей части, Эйдриану предоставляли возможность искать собственные пути и получать уроки плоти самостоятельно. Ему посчастливилось довольно рано напасть на истину, коей многие его одинокие современники так никогда и не постигли, а именно: каждый, попросту каждый изнывает по «этому», и, при наличии должного терпения, каждому можно показать, что он по «этому» изнывает. И потому Эйдриан ухватился за то, что имелось у него под рукой, и зажил на славу генитальной жизнью – сосредоточившись, разумеется, исключительно на представителях собственного пола, ибо год стоял пока что 1973-й, и существование девушек только еще предстояло открыть.
Впрочем, любовная его жизнь была далеко не счастливой. Вот и сегодня, несколько раньше, он успел уже преклонить колена у своего алтаря, погрузившись в пучину страданий, на которые внешняя его повадка не содержала и намека.
Все произошло наверху, в Длинном дортуаре. Спальня была пуста, половицы поскрипывали под его ногами тише обычного. Альков Картрайта был занавешен. Далекие всплески свистков и приветственных криков на Верхних спортивных площадках и близкий удар захлопнутой этажом ниже двери встревожили Эйдриана. Уж больно они были знакомы; нечто фальшивое, гулкое присутствовало в них, театральное – и это его настораживало. Вся школа знала, что он здесь. Все знали, что он горазд в одиночку красться по своему пансиону. И все следили за ним, он в этом не сомневался. Дальние крики на полях хоккея и регби не были настоящими, то были магнитофонные записи, которые прокручивали, чтобы его обмануть. Он шел прямиком в западню. Да она и всегда была западней. Никто ему никогда не верил. Его и от спортивных занятий освободили только затем, чтобы он думал, будто весь пансион в его распоряжении. Они все знали, знали всегда. Том, Хэрни, Хейдон-Бейли, даже Картрайт. Картрайт в особенности. Они следили и ждали. Знали и лишь дожидались заранее выбранного мгновения, чтобы разоблачить его и опозорить.
Ну и пусть следят, пусть знают. Вот она, постель Картрайта, и вот здесь, да, здесь, под подушкой, его пижама. Мягкая чесаная ткань, мягкая, как расчесанные волосы Картрайта, и запах, запах, до последней молекулы бывший Картрайтом. Тут есть даже сияющий на воротнике золотистый волос, а вот, вот здесь, пониже, – благоухание новое, благоухание, аромат, струящийся из средоточия самой что ни на есть картрайтовости Картрайта.
Прочие люди существовали для Эйдриана лишь как статисты, исполнители эпизодических ролей в фильме его жизни. Никто, кроме него, не замечал великолепия и мучительности существования, никто больше не был вполне и по-настоящему живым. Лишь у него перехватывало дыхание при виде застрявших в паутине капель росы или прорывающихся к жизни весенних почек. Послеполуденный свет, пляшущий, точно чертик на ниточке, в струйке слюны, стекающей с коровьей губы; лоскутик трущобных обоев на березовом стволе; каша из мокрых, раздавленных на тротуаре листьев, – все это разрасталось и расцветало лишь в нем одном. Только он знал, что такое любить.
Ааааааааах… если они и вправду следят, самое время раздернуть занавесь и освистать его, самое время для презрительного рева.
Но нет, ничего. Ни воплей, ни издевок – ни единого звука, способного разорвать непомерную тишь дня.
Весь дрожа, Эйдриан встал и застегнулся. Все было иллюзией. Конечно, все было иллюзией. Никто за ним не следил, никто его не порицал, никто не показывал пальцем и не перешептывался. Да и кто они такие, в конце-то концов? Низколобые, красношеие ракалии-регбисты, в которых красоты и изящества столько же, сколько в их суспензориях. Вздохнув, он перешел в собственную кабинку и выложил на кровать каракулевый жилет и цилиндр.
Если не можешь слиться с ними, думал он, победи их.
В Хьюго Александра Тимоти Картрайта он влюбился с первого взгляда, когда этот мальчик в первый же вечер второго школьного года Эйдриана медленно вплыл вместе с пятью другими новичками в сумрачный актовый зал.
Хейдон-Бейли подтолкнул Эйдриана локтем:
– Ну, что скажешь, Хили? Роскошь, а?
В кои-то веки Эйдриан промолчал. Случилось нечто ужасно неправильное.
Два мучительных триместра потребовалось ему, чтобы разобраться в симптомах. Он выискивал их по всем основным руководствам. Сомнений не было. Все до единого авторитеты твердили одно; Шекспир, Теннисон, Овидий, Ките, Джорджетт Хейер, Мильтон – все держались единого мнения. Это была любовь. Большая Любовь.
Картрайт с его сапфировыми глазами и золотистыми волосами, с его губами и гладкими членами: он был Лаурой Петрарки, Люсидасом Мильтона, Лесбией Катулла, Халламом Теннисона, светлым мальчиком и смуглой леди Шекспира, лунным Эндимионом. Картрайт был гонораром Гарбо, Национальной галереей, он был целлофаном: ласковой ловушкой, пустой и нечестивой нежданностью всего происшедшего и яркой золотистой дымкой в лугах; он был сладким-сладким, медовым-медовым, живым, живым чириканьем птенца, новорожденной любовью Эйдриана, – и голос горлицы несся над землей, и ангелы обедали в «Ритце», и соловей пел на Баркли-сквер[5].
Два триместра назад Эйдриану удалось заманить Картрайта в уборную пансиона, где они провели занимательные полчаса, да Эйдриан, собственно, и не сомневался никогда, что сможет стянуть с Картрайта штаны, – дело было не в этом. Он хотел от Картрайта чего-то большего, чем несколько судорог удовольствия, которые могли предложить скудноватые потирания и облизывания, подбрасывания и сжатия.
Он не очень хорошо понимал, чего жаждет, но одно знал точно. Любить, алкать вечной привязанности – все это менее прилично, чем дергаться, сопеть и захлебываться где-нибудь за кортами для игры в файвз. Любовь была постыдной тайной Эйдриана, секс – предметом его открытой гордости.
Он затворил за собой дверь раздевалки и обмахнулся лавандовыми перчатками. Все-таки пронесло. Еле-еле. Чем дальше он зайдет в стараниях понравиться, тем большим числом врагов обзаведется. А если он падет, Беннетт-Джонс и прочие тут же сбегутся, чтобы пинать его ногами. Одно можно сказать наверняка: Педерастическая Поза себя изжила, придется измыслить новую, иначе его ждут Неприятности.
Несколько мальцов столпилось у доски объявлений. При его приближении они замолчали. Эйдриан погладил одного по головке.
– Милые детки, – вздохнул он и, покопавшись в кармане жилета, вытащил горстку мелочи. – Сегодня вы сможете покушать.
Он уронил мелочь на пол и проследовал дальше.
«Спятил, – сказал он себе, подходя к своей комнате для занятий, именуемой также кабинетом. – Похоже, я спятил».
В кабинете сидел в йоговской позе Том, обкусывая ногти на пальцах ног и слушая «Акваланг»[6]. Эйдриан опустился в кресло, снял цилиндр.
– Том, – произнес он, – ты видишь перед собой растоптанную фиалку, высосанное яйцо, выдавленный тюбик.
– Дурака я вижу никчемного, – ответил Том. – Что это за жилетка?
– Ты прав, – сказал Эйдриан. – Сегодня я глуп. И каждодневно. Разбит, разбит, разбит. Болит, болит, болит. Парит, претит, пердит. Все в моей жизни кончается если не на ид, то на ит. Ты понял?
– Что именно?
– Ид. Это из Фрейда. Да ты знаешь.
– А. Верно. Ну да. Ид.
– Идеалистический идиот, идиосинкразический идол. Зато начинается все на ид.
– Начинается у тебя все с себя самого, – сообщил Том, пристраивая лодыжку за ухо, – это эго, а не ид.
– Ну да, умничать-то легче всего. Ты не поможешь мне выбраться из жилета? Я начинаю потеть.
– Извини, – сказал Том, – меня заклинило.
– Ты серьезно?
– Нет.
Эйдриан не без труда избавился от своего одеяния и облачился в школьную форму, а Том тем временем расплетался в полулотос, рассказывая, как провел день.
– Сходил среди дня в город, купил пару дисков.
– Не говори каких, – сказал Эйдриан, – попробую догадаться… «Парсифаль» и «Взлет жаворонка»?[7]
– «Атомное сердце матери» и «Соленый пес»[8].
– Почти угадал. Том закурил сигарету.
– Знаешь, что меня злит в этой школе?
– Кухня? Мучительно простенькая форма?
– Столкнулся я на Хай-стрит с Розенгардом, а тот и спрашивает – почему это я матч не смотрю.
– А ты бы спросил, почему он сам его не смотрит.
– Я сказал, что как раз туда и иду.
– Экий бунтарь.
– А зачем мне лишние неприятности на задницу искать?
– Ну, «как раз туда и иду» не такое уж и изящное прикрытие для задницы. Ты мог бы сказать, что матч слишком волнует тебя, что твоя нервная система просто не выдержит подобного напряжения.
– Ладно, а я не сказал. Вернулся сюда, подрочил немного и прикончил книгу.
– «Голый завтрак»?
– Ага.
– И что скажешь?
– Дерьмо.
– Ты говоришь так потому, что ничего не понял, – сказал Эйдриан.
– Я говорю так потому, что понял все, – ответил Том. – Ладно, пора заняться гренками. Я пригласил к нам Хэрни и Сэмпсона.
– Кого?
– Мы задолжали им чаепитие.
– Ты же знаешь, как я ненавижу интеллектуалов.
– Ты хочешь сказать, что ненавидишь всех, кто умнее тебя.
– Ну да. Наверное, потому, Том, я так тебя и люблю.
Том бросил на него страдальческий взгляд умученного запором человека.
– Я поставлю воду, – сказал он.
Картрайт поднял голову от «Энциклопедии Чеймберза» и продекламировал: «Отто фон Бисмарк родился в… 1815-м, в год Ватерлоо и Венского конгресса. Основатель современной Германии…»
Перед глазами его простирались сотни книг, только одну из которых – «Убить пересмешника» – Картрайт когда-то прочел вместе с прочими учениками пятого класса приготовительной школы. Такое множество книг, а ведь это всего лишь библиотека пансиона. В школьной их на тысячи и тысячи больше, а уж в университетских… Время поджимает, а память его так слаба. Как там говорил Хили? Память есть мать всех муз.
Картрайт вытянул с полки том «Мальтус – Нантакет» и отыскал муз. Их было девять, все – дочери Зевса и Мнемозины. Если Хили прав, «Мнемозина» должна означать «память».
Ну конечно! Слово «мнемоническое» – что-то, напоминающее о чем-то. «Мнемоническое», должно быть, происходит от Мнемозины. Или наоборот. Картрайт сделал пометку в тетради для черновиков.
Согласно энциклопедии, большая часть известного нам о музах извлечена из сочинений Гесиода, в особенности из его «Теогонии». Видимо, на этого поэта Хили и ссылался, на Гесиода. Но откуда Хили-то знает все это? Никто никогда не видел его с книгой в руках – а если и видел, так не чаще, чем прочих. Картрайту его ни за что не догнать. Все это просто чертовски нечестно.
Он выписал имена муз и со вздохом вернулся к Бисмарку. Когда-нибудь он доберется до самого конца, до «zythum». He то чтобы он в этом нуждался. Картрайт уже заглянул вперед и знал, что так называется род египетского пива, которое очень рекомендовал всем попробовать Диодор Сицилийский – кем бы тот ни был.
Когда Эйдриан объявил, что намерен разделить кабинет с Томом, это вызвало у всех изрядное удивление.
– С Томпсоном? – возопил Хейдон-Бейли. – Да он же дуб дубом, разве нет?
– Мне он нравится, – ответил Эйдриан, – он необычен.
– Непригляден, ты хочешь сказать. Совершенная деревяшка.
Да, действительно, ничего особенно аппетитного во внешности и манерах Тома не наблюдалось – он оставался одним из немногих в школе мальчиков, с которыми Эйдриан не складывал зверя с двумя спинами[9], – вернее, не складывал зверя с одной спиной и небезынтересным устройством тела, – однако в течение последнего года многие пришли-таки к заключению, что в Томе присутствует нечто заслуживающее внимания. Он не был умен, но много работал и очень много читал – для того, полагал Эйдриан, чтобы приобрести нечто от его, Эйдриана, блеска и бойкости. Том всегда шел своим путем и руководствовался собственными идеями. Он ухитрился отрастить самые длинные в пансионе волосы и демонстрировал пристрастие к табаку с открытостью, никому больше в школе и не снившейся, но почему-то не привлекал к себе при этом никакого внимания. Создавалось впечатление, что он носит длинные волосы и курит сигареты потому, что ему это нравится, а не из желания покрасоваться. Черта опасная, подрывающая основы основ.
Фрида, младшая экономка немецких кровей, однажды застукала его загорающим голышом в рощице.
– Томпсон, – оскорбленно вскричала она, – не положено лежать здесь совсем голым!
– Вы правы, сестра, простите, – пробормотал Том, протянул руку и нацепил на нос зеркальные солнечные очки. – И о чем я только думал, не понимаю.
Эйдриан считал, что это он привлек к Тому всеобщее внимание, сделал его популярным, что Том – его собственное, личное детище. Немногословный прыщавый олух-первоклашка обратился в человека, которым восхищались, которому подражали, и Эйдриан вовсе не был уверен, что так уж этому рад.
Нет, Том ему нравился, сомнений нет. Том был единственным, с кем он когда-либо разговаривал о своей любви к Картрайту, причем Тому хватало чувства приличия, чтобы не выказывать особой заинтересованности и сочувствия, не загашать святое и чистое пламя Эйдриановой страсти советами и участливостью. Вот без Сэмпсона и Хэрни Эйдриан вполне мог обойтись. В особенности без Сэмпсона, столь образцово воплощавшего тип зубрилы из классической школы, что он на такового даже не походил. Далеко не идеальная компания для чаепития.
Чай представлял собой особый институт, целиком, так сказать, вращавшийся вокруг ритуала преклонения перед Гренком. В месте, где спиртное, табак и наркотики пребывали под запретом, важно было подыскать для них какую-либо замену – мощный и общедоступный тотем возмужалости и выдержки. По причинам, давно уже затерявшимся во времени, на эту роль был избран Гренок. Имя его упоминали при всяком удобном случае, произнося таковое с кошмарным выговором частной школы – «гринак».
– Только я принялся за гренки, как заваливаются Бартон и Хопвуд…
– Харман вообще-то малец неплохой. Отлично готовит гренки…
– Слушай, может, заглянешь ко мне в кабинет, гренков наготовим…
– Господи, и пошевелиться-то больно. Вконец перетрудился с гренками…
Эйдриан как раз и рассчитывал мирно посидеть с Томом за гренками, поговорить о Картрайте.
– Ох, Иисусе Христе, – произнес он, расчищая на своем столе место для чайника. – О христианнейший Христос.
– Что, проблема?
– Я не узнаю покоя, пока он не поцелует меня, – простонал Эйдриан.
– Ты уверен?
– Уверен и могу сказать тебе, в чем еще я уверен. В том, что на нем сейчас голубой, с высоким воротом свитер из шетландской шерсти. И пока мы с тобой разговариваем, его тело движется внутри свитера. Теплое и живое. И это превышает все, что способен вынести человек из плоти и крови.
– Ну, тогда прими холодный душ, – сказал Том. Эйдриан пристукнул чашкой по столу и схватил Тома за плечо.
– Холодный душ? – воскликнул он. – Джизус-Крайст, друг, я говорю о любви! Знаешь, что она для меня значит? У меня все сжимается в животе, понимаешь, Том? Любовь разъедает меня изнутри, это верно. Но что она делает с моим разумом? Она швыряет за борт мешки с песком, чтобы он воспарил, как воздушный шар. Я вдруг возношусь над обыденностью. Я обретаю наивысшие искусность и ловкость. Я иду по канату над Ниагарским водопадом. Я – один из великих. Я Микеланджело, ваяющий бороду Моисея. Я Ван Гог, пишущий чистый солнечный свет. Я Горовиц, играющий Императорский концерт[10]. Я Джон Барримор[11], еще не взятый за горло киношниками. Я Джесси Джеймс[12] и два его брата – все трое сразу. Я У. Шекспир. И вокруг меня уже нет никакой школы – это Нил, Том, это Нил, – и барка Клеопатры скользит по водам.
– Неплохо, – сказал Том, – совсем неплохо. Сам придумал?
– Рэй Милланд в «Потерянном уикэнде». Он вполне мог говорить о Картрайте.
– Однако говорил о спиртном, – отметил Том, – что само по себе может сказать тебе о многом.
– А именно?
– А именно заткнись и намазывай масло.
– Я поставлю пластинку со «Смертью в любви»[13], вот что я сделаю, мерзкая ты скотина, – сказал Эйдриан, – и пусть мое сердце бьется в согласии со сладостными звуками. Однако поспешите, друг мой! – я слышу, что к дому подкатил экипаж. А вот, Ватсон, если только я не ошибаюсь, и наш клиент поднимается по лестнице. Войдите.
В двери появился помаргивающий за очками Сэмпсон, следовавший за ним Хэрни бросил Тому какую-то баночку.
– Привет, Том. Я принес немного лимонного мармелада.
– Лимонного мармелада! – вскричал Эйдриан – А что я тебе сию минуту говорил, Том? «Ах, если бы у нас был лимонный мармелад для наших гостей». Ты читаешь чужие мысли, Хэрни.
– А вон там гренки, – произнес Том.
– Спасибо, Томпсон, – сказал Сэмпсон, хватая гренок. – Гудерсон говорит, ты был не неблизок к тому, Хили, чтобы Р. Б.-Д. с Сарджентом помяли тебя в раздевалке.
– Мадам Молва вновь обскакала меня. «Не неблизок»? О господи…
Хэрни хлопнул Тома по спине.
– О, Томмо, – сказал он, – вижу, ты наконец раздобыл «Атомное сердце матери». Ну и как тебе? Забирает или не очень?
Пока Том с Хэрни судачили о «Пинк Флойд», Сэмпсон объяснял Эйдриану, почему он считает Малера на самом-то деле куда более необузданным, чем любая рок-группа, – в том смысле, что ему приходится обуздывать себя в гораздо большей мере.
– Интересная мысль, – сказал Эйдриан, – в том смысле, что в ней нет ничего интересного.
Когда с чаем и гренками было покончено, Хэрни встал и откашлялся.
– Думаю, Сэм, теперь мне пора рассказать о моем плане.
– Определенно, – откликнулся Сэмпсон.
– Эй, там! – произнес Эйдриан, вставая, чтобы запереть дверь. – Грабеж, измена, хитрость[14].
– Штука вот какая, – начал Хэрни. – Мой брат, не знаю, известно ли вам об этом, учится в Радли, ввиду того что родители сочли плохой идеей отдать нас обоих в одну школу.
– Ввиду того, что вы близнецы? – поинтересовался Эйдриан.
– Правильно, ввиду того, что мама налегала на средства для повышения плодовитости. В общем, он написал мне на прошлой неделе насчет неслыханно дикого скандала, который разразился там ввиду того, что кто-то наделал дел, издавая неофициальный журнал под названием «Потаскун», полный непристойных клевет и фантастических измышлений. Вот я и подумал, мы с Сэмми подумали, – почему бы и нет?
– Почему бы и нет что? – спросил Том.
– Почему бы не проделать то же самое здесь?
– Ты имеешь в виду подпольный журнал?
– Ну да.
Том открыл и закрыл рот. Сэмпсон самодовольно ухмылялся.
– Иисус изнуренный и мать-перемать, – сказал Эйдриан. – Вот это мысль.
– Согласись, отличная.
– А те ребята, – поинтересовался Том, – те, что выпускали журнал в Радли. Что с ними стало?
Сэмпсон принялся протирать кончиком галстука очки.
– А вот это как раз причина, по которой нам следует действовать с великой осторожностью. Их обоих… м-м… тоже «выпустили». «Выставили» – таков, сколько я понимаю, технический термин.
– Это значит, что все необходимо хранить в тайне, – сказал Хэрни. – Статьи пишем на каникулах. Вы печатаете их на восковке и посылаете мне. Я иду в отцовский офис, там есть «Гестетнер»[15], делаю копии, а в начале следующего триместра доставляю их сюда, и мы находим способ тайком распихать журнал по всем пансионам.
– Все это смахивает на «Колдиц»[16], нет? – сказал Том.
– Нет-нет! – воскликнул Эйдриан. – Не слушайте Томпсона, он циничная старая галоша. Я за, Херня. Безусловно за. Какого рода статья тебе нужна?
– Ну, сам понимаешь, – ответил Хэрни, – что-нибудь подстрекательское, направленное против частной школы. В этом роде. Чтобы их всех пробрало.
– Я задумал подобие «фаблио», в котором наша школа сравнивается с фашистским государством, – сообщил Сэмпсон, – нечто среднее между «Скотным двором» и «Артуро Уи»[17]…
– Остановись, Сэмми, я распаляюсь от одной только мысли, – сказал Эйдриан. Он взглянул на Тома-. – Что думаешь?
– Ну а почему бы и нет? Похоже, повеселимся.
– И помните, – предупредил Хэрни, – никому ни слова.
– Наши уста запечатаны, – сказал Эйдриан.
«Уста». «Запечатаны». Опасные слова. Пяти минут не проходит, чтобы ему не вспомнился Картрайт.
Хэрни извлек из кармана жестянку из-под табака и оглядел комнату.
– А теперь, – произнес он, – если кто-нибудь опустит шторы и запалит благовонную палочку, могу предложить вам упоительные двадцать четыре карата смолки из собранной в Непале черной конопли, каковую смолку надлежит выкурить незамедлительно ввиду того, что мерзопакость это и вправду качественная.
II
Эйдриан мчал по коридору к классу Биффена. Его остановил один из школьных капелланов, доктор Меддлар.
– Запаздываем, Хили.
– Вот как, сэр? И вы тоже? Меддлар взял его за плечи.
– Вы несетесь во весь опор, Хили, не разбирая дороги. А впереди вас ожидают преграды, рытвины и страшное падение.
– Сэр.
– И когда вы рухнете, – сверкнув очками, сказал Меддлар, – я буду смеяться и кричать ура.
– В вас скрыта душа милосердного христианина, сэр.
– Слушайте меня! – рявкнул Меддлар. – Вы считаете себя очень умным, верно? Так позвольте сказать вам, что в этой школе таким, как вы, не место.
– Зачем вы говорите мне это, сэр?
– Затем, что если вы не научитесь жить рядом с другими людьми, не научитесь приспосабливаться, ваша жизнь обратится в долгий, прискорбный ад.
– Что и наполнит вас удовлетворением, сэр?
Безумно порадует?
Меддлар смерил его гневным взглядом и изобразил глухой смешок.
– Что дает вам право, мальчишка, говорить со мною подобным образом? Почему, ради всего святого, вы считаете, что имеете право на это?
Эйдриан с негодованием обнаружил, что на глаза его наворачиваются слезы.
– Бог дает мне это право, сэр, потому что Бог любит меня. И Бог не допустит, чтобы меня судил ф-ф-фашист – ханжа – ублюдок вроде вас!
Он вывернулся из лап Меддлара и полетел по коридору.
«Ублюдок, – пытался выкрикнуть он, – долбаный проклятый ублюдок!» Однако слова застревали в горле.
Меддлар захохотал ему вслед: – Вы порочны, Хили, порочны до мозга костей.
Эйдриан выскочил во двор. Все ученики школы сидели на утренних занятиях. В колоннаде было пусто. Старая классная, библиотека, дом директора, лужайка Основателя – обезлюдело все. Вот она, обитель Эйдриана, его пустой мир. Он представил себе, как вся школа, прижавшись носами к оконным стеклам, следит за ним, перебегающим Западный двор. Старосты пансионов прохаживаются с переносными рациями по коридору.
– Говорит Синий-семь. Объект следует мимо библиотеки Кавендиша к Музыкальной школе. Отбой.
– Синий-семь, говорит Меддлар. Встреча прошла согласно плану, объект выведен из себя, весь в слезах. Красному-три продолжить наблюдение в Музыкальной школе. Отбой.
«Либо они – живые существа, а я плод воображения, либо я живое существо, а они – фантазия».
Эйдриан прочитал кучу книг и знал, что на самом-то деле ничем от других не отличается. И все же у кого еще змеи извиваются в животе, как у него? Кто бежит рядом с ним в таком же отчаянии? Кто еще будет помнить это мгновение и все мгновения, подобные этому, до конца своих дней? Никто. Они сидят за своими партами, помышляя о регби и ланче. Он не такой, как они, и потому одинок.
Первый этаж Музыкальной школы занимали маленькие классы для практических занятий. Эйдриан, бредя по коридору, слышал, как за дверьми упражняются ученики. Виолончель подпихивала по воде протестующего лебедя Сен-Санса. Следом труба выпукивала «Слава пребудет с Тобой»[18]. А в третьем от конца классе Эйдриан увидел сквозь стеклянную дверь Картрайта, небезуспешно справлявшегося с бетховенским менуэтом.
Рок всегда ведет себя именно так. В школе было шестьсот учеников, и хотя Эйдриан выступил нынче в путь, чтобы перехватить Картрайта и подстроить якобы случайную встречу, – расписание его Эйдриан знал наизусть, – он все равно питал уверенность в том, что частота их случайных столкновений значительно превышает естественную.
Судя по всему, Картрайт был в классе один. Эйдриан толкнул дверь и вошел.
– Привет, – произнес он, – не останавливайся, у тебя хорошо получается.
– По-моему, ужасно, – сказал Картрайт. – Никак не добьюсь беглости левой руки.
– Я слышал совсем другое, – ответил Эйдриан, и его тут же охватило желание откусить себе язык.
Вот он здесь, наедине с Картрайтом, чьи волосы даже сейчас взметает льющийся в окно солнечный свет, с Картрайтом, которого он любит всей душой и существом, и единственные слова, какие у него нашлись, это «я слышал совсем другое». Господи, да что же это с ним? С не меньшим успехом он мог гаркнуть голосом Эрика Моркэмби[19]: «На это ответа не существует» – и потрепать Картрайта по щеке.
– М-м, у тебя официальный урок?
– Да нет, мне через полчаса сдавать экзамен за третий класс, вот и решил поупражняться. По крайней мере, избавился от двух уроков математики.
– Повезло.
«Повезло»? Ну чистый Оскар Уайльд.
– Что ж, тогда я, пожалуй, не стану тебе мешать.
Отлично, Эйдриан, блестяще. Мастерски сказано. «Тогда я, пожалуй, не стану тебе мешать». Измени один только слог, и вся эта изящная сентенция рухнет.
– Ладно, – сказал Картрайт и повернулся к инструменту.
– Ладно, будь здоров. Удачи! Эйдриан закрыл за собой дверь. О Боже. О божественный Боже.
И он пустился в горестный обратный путь к школьным классам. Слава Всевышнему, его ожидал всего только Биффен.
– Вы нынче на удивление поздно, Хили.
– Ну, знаете, сэр, – сказал, усаживаясь, Эйдриан, – лучше на удивление поздно, чем на удивление никогда.
– А вы не желаете сообщить мне, что вас так задержало?
– Вообще-то, не очень, сэр.
Легкий шелест пронесся по классу. Это уж было слишком, даже для Хили.
– Прошу прощения?
– Ну, то есть, не перед всем классом, сэр. Тут много личного.
– О, понимаю. Понимаю, – сказал Биффен. – Что же, в таком случае правильнее будет, если вы объяснитесь со мной потом.
– Сэр.
Самое лучшее, это когда железы учительского любопытства начинают источать сок.
Эйдриан глянул в окно.
«Быть сегодня в Картрайте, в этот мартовский день»[20].
Теперь уж в любую минуту какому-то экзаменатору выпадет счастье созерцать прелестную сосредоточенную складочку на лбу пробегающегося по менуэту Картрайта. Смотреть, как всползает по его предплечью шерстяной рукав зимней куртки.
«Когда же в шерсть Картрайт себя облек, я мыслю, сколь прелестен, о мой Бог, его одежд неторопливый ток»[21].
Тут он услышал голос Биффена, стучащийся в двери его грез.
– Не могли бы вы привести нам пример, Хили?
– Э-э, пример, сэр?
– Да, сослагательного наклонения, следующего за прилагательным в превосходной степени.
– Вы сказали, в превосходной?
– Да, да.
– М-м… как насчет «le garçon le plus beau que je connaisse»?
– Э-э… миловиднейший мальчик, какого я знаю?
Да, это годится.
– Миловиднейший, сэр? Я разумел – прекраснейший.
Черт, он же вроде решил распроститься с педерастической позой. Ладно, по крайней мере смешков добился.
– Благодарю вас, Хили, достаточно. Успокойтесь, вы все, он ни в каких ободрениях не нуждается.
Еще как нуждаюсь, подумал Эйдриан. Во всех ободрениях, какие найдутся.
Урок продолжался, Биффен предоставил Эйдриану свободу предаваться снам наяву.
Когда сорок минут истекли, Эйдриан среагировал на звук колокола со всей, на какую был способен, прытью, метнувшись из тыльной части класса к двери, чтобы затеряться за нею в толпе, однако Биффен перехватил его:
– Вы ничего не забыли, Хили?
– Сэр?
– Я думаю, вы обязаны мне объяснением вашей непунктуальности.
Эйдриан приблизился к кафедре.
– Ах да, сэр. Дело в том, сэр, что я и так-то должен был опоздать – совсем ненамного, однако столкнулся с доктором Меддларом.
– И он задержал вас на двадцать минут?
– Да, сэр. Или, вернее, нет, сэр. Он был очень груб со мной. Расстроил меня, сэр.
– Груб? Капеллан был с вами груб?
– Я уверен, это не входило в его намерения, сэр.
Эйдриан постарался соорудить физиономию непорочную, но при этом встревоженную. Такое выражение особенно хорошо срабатывало, когда приходилось смотреть, как сейчас, на кого-нибудь снизу вверх. Слизано же оно было по преимуществу с Доминика Гарда, игравшего Лео в фильме «Посредник». Этакое недоуменное чистосердечие.
– Он… он довел меня до слез, сэр, а мне было слишком стыдно являться сюда в соплях, вот я и сидел в музыкальном классе, пока немного не успокоился.
Все это было ужасно непорядочно по отношению к бедному старому Биффену, которого Эйдриан, пожалуй, даже любил за его белоснежные волосы и вечное выражение кроткого изумления на лице. Да еще и «в соплях»… Под пару к этому обороту так и просятся «не придира» и «просто по-тряска». Вообще-то не такой уж и плохой словарь, стоит взять его на вооружение. Школьный сленг 1920-х заслуживает возрождения.
– О боже. Впрочем, я уверен, у капеллана наверняка имелись серьезные причины, чтобы… то есть доктор Меддлар не был бы резок с вами без причины.
– Ну, должен признать, сэр, я ему надерзил. Но вы ведь знаете, каков он.
– Он, в чем я нисколько не сомневаюсь, человек скрупулезно честный.
– Да, сэр. Я… мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто я лгу вам, сэр. Уверен, доктор Меддлар, если вы его спросите, расскажет вам о случившемся так, как оно видится ему.
– Этого я делать не стану. Я знаю, когда ученик говорит мне правду, а когда лжет.
– Спасибо, сэр.
Черта с два. И никто из них никогда не знает.
– Не хочется читать вам нотации, Хили, и не хочется задерживать вас во время утренней перемены, однако вы должны взглянуть правде в лицо – многие из моих коллег уже начинают терять терпение. Быть может, вам кажется, что они вас не понимают?
– Я думаю, вся беда в том, сэр, что они меня как раз понимают.
– Н-да. Вы и сами знаете, именно замечания подобного рода с гарантией выводят некоторых учителей из себя, не так ли? Утонченность не относится к числу качеств, которые повергают людей в восхищение. И не только в школе. Ее не любит никто и нигде. Во всяком случае, в Англии.
– Сэр.
– Вы самый умный из мальчиков моего французского класса. И прекрасно это знаете. Но вы совсем не работаете. А это делает вас самым отстающим учеником школы.
Теперь воспоследует притча о дарованиях, на что поспорим?
– Что вы думаете об университете?
– О, ну… знаете, сэр. Думаю, после выпускных экзаменов я, пожалуй, махну на образование рукой. И оно, скорее всего, махнет рукой на меня.
– Понятно. Скажите, Хили, чем вы занимаетесь по пятницам после полудня? Я так понимаю, в Кадетском корпусе вы не состоите?
– Меня оттуда выгнали, сэр. Такое безобразие.
– Да, не сомневаюсь. Стало быть, вы теперь в Авангарде, не так ли?
– Да, сэр. Есть одна старушка, которую я навещаю.
– Ну так вот, – сказал Биффен, укладывая учебники в кейс, – на Морли-роуд имеется еще одна старушка – и старичок, – возможно, у вас найдется время, чтобы как-нибудь навестить и их. По пятницам мы с женой всегда устраиваем чаепитие, очень рады будем вас видеть.
– Спасибо, сэр.
– Предупреждать нас заблаговременно не нужно. Мы в любом случае будем готовы к вашему приходу. А теперь идите.
– Спасибо, мистер Биффен, большое вам спасибо.
Эйдриан инстинктивно протянул руку, которую Биффен со страшной силой пожал, глядя Эйдриану прямо в глаза.
– Вы же знаете, я не мистер Чипс[22]. Я отлично понимаю, что вам меня жалко. Когда тебя жалеют коллеги, это уже достаточно плохо, но от вас я жалости не потерплю. Не потерплю.
– Нет, сэр, – сказал Эйдриан, – я не…
– Вот и хорошо.
III
Том, Эйдриан и Свинка Троттер, компаньон не частый, но малоприятный, прогуливались по школьному городку. Время от времени мимо них с устрашающей целеустремленностью людей, получающих удовольствие от Спорта, пробегали мальчики в трико. Вокруг щебетала и перешептывалась, тарахтя по штакетнику палками, малышня. Эйдриан решил, что стоит опробовать новый сленг.
– Знаете, ребята, чудная штука! Старина Биф-фо выкинул нынче утром номер. Сначала устроил мне таску за нерадивость, а после пригласил к чаю. Без булды! Взял да и пригласил.
– Наверное, он в тебя влюбился.
– Поганые твои слова, Томпсон. Лучше возьми их назад, не то по ушам получишь.
Они прошлись еще немного – Эйдриан практиковался в новых оборотах, а Свинка Троттер плелся сзади, встречая каждое слово раскатами такого хохота, что Эйдриану эта игра скоро прискучила.
– Кстати, – сказал он. – Расскажи мне о своих родителях, Том.
– А что ты хочешь знать?
– Ну, ты вообще ничего о них не говоришь.
– Да о них и говорить особенно нечего. Папаша работает в «Бритиш Стил», мама того и гляди пролезет в мэры. Две сестры, обе с приветом, и брат, который появится здесь в следующем триместре.
– А у тебя, Хили? – поинтересовался Свинка Троттер. – Чем занимаются твои родители?
– Родитель, – ответил Эйдриан. – Мамы больше нет.
Троттера это потрясло.
– О господи, – сказал он. – Извини. Я не знал…
– Да нет, ничего. Автомобильная катастрофа. Когда мне было двенадцать.
– Как… как ужасно.
– Давайте пройдемся до Глэдис Уинкворт, там я вам все и расскажу.
Церковь городка стояла на холме, а на кладбище при ней – которое люди вроде Сэмпсона, обладатели сокрушительного остроумия, неизменно именовали «мертвой точкой города» – имелась деревянная скамья с вделанной в нее табличкой, на которой было написано: «Глэдис Уинкворт». И все. Предполагалось, что скамью воздвигнул спятивший вдовец, вознамерившийся увековечить подобным образом память покойной жены. Том считал, что жена эта прямо под скамьей и зарыта. Эйдриан же был уверен, что это просто-напросто собственное имя скамьи, и от веры своей не отступался.
С Глэдис было видно все: Верхние, Средние и Нижние спортивные площадки, театр, Старую классную, библиотеки, Капеллу, столовую и Школу искусств. Сидевший на ней человек ощущал себя генералом, озирающим поле битвы.
День стоял холодный, и, пока все трое поднимались к кладбищу, изо ртов и ноздрей их вырывался парок.
– Увы, забыв про грозный рок, резвятся шалуны[23], – произнес Эйдриан. – Живые и юные играют в прятки среди могильных камней хладных и мертвых.
Том с Эйдрианом присели, ожидая отставшего Свинку Троттера.
– История моей матери не очень приятна, – начал Эйдриан, когда Троттер плюхнулся рядом с ними, – но я расскажу ее вам, если вы пообещаете сохранить все в тайне. Она известна одному лишь Папаше Тикфорду. Отец рассказал ему все, когда я приехал сюда.
Затаивший дыхание Троттер кивнул.
– Я ни единой душе не скажу, Хили. Честно. Эйдриан взглянул на Тома, тот тоже серьезно кивнул.
– Ну что же, хорошо, – сказал Эйдриан. – Однажды вечером, лет около трех назад… на самом деле почти ровно три года назад… я сидел дома и смотрел телевизор. Помнится, показывали «Человека по имени Железный Бок». Отец у меня профессор биохимии, работает в Бристольском университете и часто задерживается допоздна. В тот вечер мама была на кухне, глушила водку прямо из чайной чашки. В десять она грохнула чашкой об пол и завопила так, что я услышал ее в гостиной.
Троттер смущенно заерзал.
– Послушай, – сказал он. – Ты вовсе не обязан рассказывать нам об этом.
– Нет-нет, мне самому хочется. Она, как я уже сказал, пила с самого полудня и тут вдруг взвыла: «Десять часов! Десять долбаных часов! Почему его нет дома? Почему, во имя Господне, его нет дома?» Что-то в этом роде. Я заглянул на кухню, увидел ее опухшее лицо, залитые слезами и испятнанные тушью для ресниц щеки, дрожащие губы и, помню, подумал: «Она похожа на Шилли Уинтерс, но только бесталанную». Не знаю, почему мне пришла в голову именно эта мысль, но вот пришла. Я отвернулся к телику – не мог видеть ее такой – и сказал: «Он работает, мама. Ты же знаешь, он работает».
«Работает? – взвизгнула она, обдав мне лицо зловонным дыханием. – Работает! Вот это отлично! Вставляет этой манде лаборантке, вот что он делает. Сучара. Я ее видела… дурацкий белый халат и дурацкие белые зубы. Маленькая сучья шлюшка».
И Том, и Троттер, не веря ушам, таращились на выкрикивавшего эти слова Эйдриана, однако глаза его были закрыты, казалось, он и забыл о присутствии друзей.
– Визжать она умела, моя мама. Я подумал, что вопль такой силы сорвет ей голос, на деле же надтреснуто прозвучал мой собственный. «Ты бы лучше легла в постель, мама», – сказал я.
«В постель! Это он сейчас валяется в сучьей постели». Мама захихикала, потянулась к бутылке и выхлебала остатки водки, так что жгучая струйка потекла, смешиваясь со слезами, по складкам ее мясистого лица. Мама икнула и попыталась втиснуть бутылку в измельчитель отходов, было у нас такое устройство.
– «Гарбюратор», – сказал Свинка Троттер. – По-моему, они называются «Гарбюраторами».
– Да, верно, «Гарбюратор». Она попыталась втиснуть бутылку в «Гарбюратор». «Я собираюсь застукать обоих за их веселыми играми»– пропела она. Когда мама хмелела, то начинала вот так припевать, это был знак, что она набралась всерьез.«Вот что я думаю сделать. Где ключи?» «Мама, ты не сможешь вести машину! – сказал я. – Подожди, он скоро вернется. Вот увидишь». «Где ключи? Где сраные ключи от машины?» Что ж, я-то прекрасно знал, где они – на столе в вестибюле, – и побежал туда, схватил ключи и сунул их за щеку. Бог знает почему. Это ее здорово завело. «Подойди ко мне, мелкий гаденыш, и отдай ключи!» Я сказал: «Мама, ты не сможешь вести в таком состоянии, перестань, ладно?» И тогда… тогда она схватила стоявшую на столе вазу и запустила ею в меня. Ваза попала мне в голову, сбоку, разбилась, я полетел вниз по лестнице, а внизу споткнулся и упал. Видите шрам, вот здесь?
Эйдриан разделил волосы и показал Троттеру с Томом маленький белый шрам.
– Пять швов. В общем, лицо мое заливала кровь, а мама трясла меня и лупила по щекам, слева и справа, слева и справа. «Отдашь ты мне эти сраные ключи?» – визжала она, встряхивая меня на каждом слоге. Я лежал на полу, плакал, не скрою, просто подвывал: «Пожалуйста, мама, тебе нельзя выходить из дому, нельзя. Пожалуйста!»
Эйдриан примолк и огляделся по сторонам.
– Может, рискнем, выкурим по сигарете, вы как? Том раскурил сразу три.
– Продолжай! – сказал Свинка Троттер. – Что было потом?
– Ну, – сказал, глубоко затянувшись, Эйдриан, – чего мама не заметила, так это того, что от удара ключи вылетели из моего рта, точно тарелочка для стрельбы из метательной машины. Она думала, что ключи все еще у меня во рту, и потому начала с силой раздвигать мне челюсти, знаете, как ветеринар, собирающийся скормить собаке таблетку. «А, значит, маленький сучонок проглотил их, так?» – спросила она. И я закричал в ответ: «Да, проглотил! Проглотил, и ты их не получишь! Так что… так что просто забудь о них!» Но, точно пристрастившийся к героину подонок из хаммеровского[24] фильма ужасов, я невольно и сам искал их глазами, и, разумеется, мама, проследив направление моего взгляда, на четвереньках переползла вестибюль и сцапала ключи. И выскочила из дома. Я все кричал и кричал, призывая ее вернуться. Потом услышал хруст гравия под покрышками, а потом – опять-таки как в фильме ужасов – потерял сознание.
– Господи, – произнес Свинка Троттер.
– Она угробила семью из четырех человек, ну и себя, конечно, – сказал Эйдриан. – Отец, ни единого раза в жизни ей не изменивший, и поныне еще не оправился от этой истории. Она была сукой, моя мама. Самой что ни на есть сукой.
– Да-а, – сказал Том. – Штука-то в том, Эди, что я – может, ты забыл, – но я в прошлом триместре познакомился с твоей мамой. Рослая женщина с широкой улыбкой.
– Черт, – сказал Эйдриан. – Так ты с ней знаком. Ну ладно, все равно попробовать стоило.
Он встал и забросил окурок за надгробный камень.
Троттер глядел на него во все глаза.
– Ты хочешь сказать, – выдавил он, – ты хочешь сказать, что все это выдумал?
– Боюсь, что так, – ответил Эйдриан.
– Все?
– Нет, отец у меня профессор, это чистая правда.
– Ты поганый мешок дерьма, – произнес Троттер, на глазах которого вскипали слезы. – Поганый мешок дерьма!
И он, давясь рыданиями, пошел прочь. Эйдриан с удивлением смотрел ему вслед.
– Что это со Свинкой? Он должен был с первых же слов понять, что я вру.
– Да ничего, – ответил Том, обращая на Эйдриана большие карие глаза. – Просто его мать и два брата погибли три года назад в автомобильной катастрофе, вот и все.
– О нет! Нет! Ты шутишь?
– Ну, в общем-то, да.
Галстук МКК[25] сидел с Зеленовато-Голубым Костюмом «Сафари» за столиком у окна кафе «Базар». Вокруг сновали, позвякивая мелочью в карманах, Белые Рубашки При Черных Жилетах.
– Herr Ober[26], – позвал Галстук МКК.
– Mein Herr?
– Zwei Kaffee mit Schlag, bitte. Und Sachertorte. Zweimal.[27]
Официант отдал четкий австрийский поклон и удалился.
Зеленовато-Голубой Костюм «Сафари» промокнул лоб.
– Передача не состоялась,– сообщил он.
– Ну что же,– откликнулся Галстук МКК– Сейчас документы наверняка у Одиссея, и он готовится вывезти их из Зальцбурга. Нужно проследить за ним и избавить его от бумаг.
– Если Троянцы решились убить Партокла у всех на глазах.
– Тронуть Одиссея они не посмеют.
– Он, знаете ли, не один. С ним молодой англичанин.
Галстук МКК улыбнулся:
– Об этом я осведомлен. Как мы его обозначим?
– Телемах?
– Совершенно верно. Телемах. Напомните мне, чтобы я рассказал вам все о Телемахе.
– Вы его знаете?
– Близко. Думаю, нам предстоит обнаружить, что никакой необходимости калечить Одиссея либо Телемаха нет. Во всяком случае, пока мы имеем возможность завладеть «Мендаксом».
– Они отбывают завтра.
– Уже? И на какой колеснице поскачут?
– У Одиссея красный «вулзли».
– Типично для него. Весьма типично. Галстук МКК окинул Костюм «Сафари» взглядом, полным ласкового презрения.
– Полагаю, Гермес, коротковолновика у вас при себе не имеется?
– Хотите послать донесение?
– Не говорите глупостей. Мне нужно «Зарубежное вещание Би-би-си». Вест-Индия играет сегодня на «Олд-Траффорде» с Англией.
– Играет? Во что играет?
– В крикет, задница вы этакая. В крикет.
Глава вторая
I
– Перифрастическое «do» было избыточным носителем времени, – говорил Эйдриан. – Семантически пустым, но тем не менее широко используемым. Всего существует три основные теории происхождения перифрастического «do». Первая: оно возникло вследствие влияния аналогично применяемого во французском «faire». Вторая: оно развилось из староанглийского каузативного «do». Третья: оно явилось результатом семантического развития полного фактитивного глагола «do». Рассмотрение всех этих теорий могло бы сказать нам многое об альтернативных подходах к диахронному синтаксису и генеративной грамматике.
Он взглянул на софу. Трефузис лежал навзничь: на груди – переполненная пепельница, на шее – маленькие наушники, на лице – сиреневого шелка носовой платок, сквозь который Трефузис ухитрялся курить. Если бы не подъемы и опускания пепельницы да не облака пронизывающего шелк дыма, Эйдриан мог бы счесть его мертвым. Хотелось надеяться, что это не так, – эссе, которое зачитывал Эйдриан, было хорошим эссе, потребовавшим от Эйдриана немалых усилий.
Друзья предупреждали его – не связывайся с филологией.
– Получишь Краддока, от которого никакого толка не будет, – говорили они. – Трефузис занимается только с аспирантами и двумя-тремя избранными студентами. Пиши, как все нормальные люди, по американской истории.
Однако Трефузис снизошел до встречи с ним.
– Раннее среднеанглийское перифрастическое «do» может появляться после модальных глаголов и после «have» плюс причастие прошедшего времени. По существу, это второстепенное немодальное средство, взаимоисключающее «be» плюс причастие прошедшего времени и несовместимое с пассивным форматом. Уже не позднее 1818-го некоторые грамматики писали, что оно являлось стандартной альтернативой простой формы, однако другие отрицали его использование где бы то ни было, кроме эмфатических, вопросительных и отрицательных предложений. К середине восемнадцатого столетия оно вышло из употребления.
Эйдриан поднял взгляд от стопки страниц. На фильтрующем табачный дым шелке обозначилось бурое пятно.
– М-м… ну вот…
Софа молчала. Вдали затеяли отбивать время все колокола Кембриджа сразу.
– Профессор Трефузис?
Из-под носового платка донесся вздох. – Да.
Эйдриан вытер ладони о колени.
– Вам понравилось? – спросил он.
– Хорошо построено, хорошо проработано, хорошо обосновано, хорошо аргументировано…
– О. Спасибо.
– Оригинально, выразительно, продуманно, проницательно, остро, проливает новый свет, убедительно, понятно, неотразимо, очаровательно прочитано…
– Э-э… хорошо.
– По моим представлениям, – продолжал Тре-фузис, – у вас ушел почти час на то, чтобы сдуть все это.
– Простите?
– Бросьте, бросьте, мистер Хили. Вы уже успели нанести оскорбление вашим же собственным умственным способностям.
– О.
– Вал Кристлин, «Neue Philologische Abteilung»[28], июль 1973-го, «Происхождение и природа перифрастического глагола «do» в среднем и раннем современном английском». Я прав?
Эйдриан неуютно поерзал. Довольно трудно понять, что думает Трефузис, когда лица его не видно: накрытое носовым платком, оно оставалось нечитаемым, точно рецепт врача.
– Послушайте, мне страшно жаль, – начал Эйдриан. – Дело в том, что…
– Прошу вас, не извиняйтесь. Если бы вы потрудились состряпать что-либо собственное, мне точно так же пришлось бы выслушивать ваше чтение, а, могу вас уверить, хорошая статья доставляет мне больше удовольствия, нежели посредственная. На это Эйдриану достойный ответ придумать не удалось.
– У вас отличный мозг. По-настоящему превосходный мозг, мистер Хили.
– Спасибо.
– Отличный мозг, но никчемный ум. У меня отличный мозг и отличный ум. Как и у Расселла. У Левиса хороший ум при практически полном отсутствии мозга. Хотелось бы мне знать, мы так и будем тянуть все это дальше?
– Что именно?
– Вот эту повторяющуюся раз в две недели демонстрацию краденого товара. Мне она представляется довольно бессмысленной. Я не нахожу позу беззаботной юности прелестной и привлекательной, как, полагаю, и вы не находите чарующей и чудаковатой позу изнуренной заботами старости. Возможно, мне следует позволить вам порезвиться еще год. Не сомневаюсь, что переходные экзамены вы сдадите очень хорошо. Честность, усердие и трудолюбие суть качества, совершенно излишние для человека, подобного вам, – как вы и сами явно усвоили.
– Нет, дело просто в том, что я был так.. Трефузис стянул с лица носовой платок и взглянул на Эйдриана:
– Ну разумеется! Безумно заняты. Безумно.
Он извлек из пачки, лежавшей поверх книжной башни, возвышающейся рядом с софой, новую сигарету и постучал ею о ноготь большого пальца.
– Моя первая встреча с вами лишь подтвердила то, что я подозревал с самого начала. Вы мошенник, проходимец и шарлатан. Тип человека, который, на самом-то деле, мне симпатичнее любого другого.
– Почему вы уверены в том, что я именно таков?
– Я изучаю язык, мистер Хили. Вы пишете гладко и убедительно, говорите весомо и сдержанно. Сложная идея здесь, отвлеченное утверждение там, вы играете ими, жонглируете, сбиваете их с пути истинного. Тут нет движения от мысли к постижению, нет озарений, нет вопрошаний, нет возбуждения. Вы пытаетесь убедить других, но себя – никогда. Рисунок, структуру вы распознаете, однако перестраиваете их вместо того, чтобы анализировать. Короче говоря, вы не думаете. И никогда не думали. Вы ни разу не сказали мне чего-либо, представляющегося истинным лично вам, вы говорите лишь о том, что выглядит истинным и, возможно даже, способно таковым оказаться, – о том, что в данный момент соответствует характеру того человека, которого вы решили сегодня изображать. Вы жульничаете, ищете коротких путей и лжете. Изумительно!
– При всем моем уважении, профессор…
– Чушь! Вы меня не уважаете. Вы боитесь меня, я вас раздражаю, вы мне завидуете… все что угодно, но не уважаете. Да и с чего бы? Я человек далеко не почтенный.
– Я собирался сказать другое – так ли уж сильно я отличаюсь от прочих людей? Разве не все думают так же, как я? Разве каждый не занимается тем, что просто перестраивает структуры? Ведь идеи, вне всяких сомнений, не создаются и не разрушаются.
– Да! – Трефузис восхищенно прихлопнул в ладоши. – Да, да, да! Но кто еще знает, что делает именно это и ничто иное? Вы знаете и всегда знали. Другие стараются, как только могут, и когда они говорят что-либо, то думают это. Вы – нет, и вы распространяете эту двойственность также и на ваши нравственные принципы. Вы употребляете идеи и людей и злоупотребляете ими, потому что не верите в их существование. Для вас это просто игрушки. Вы истинный Цербер, и вам это известно.
– Хорошо, – сказал Эйдриан, – и что со мной будет дальше?
– А, ну да. Я мог бы попросить вас не досаждать мне больше. Позволить вам жить вашей скучненькой жизнью, пока я буду жить своей. Я мог бы также написать записку вашему тютору. И он выставил бы вас из университета. И то и другое лишит меня дохода, сколь бы пустячным он ни был, который я получаю благодаря тому, что руковожу вами. Что делать? Что делать? Налейте себе стакан мадеры, там, на пристенном столике, должна быть бутылка «Серсиал» или «Буал». Гм! Все это так сложно.
Эйдриан встал и осторожно двинулся через комнату.
Жилище Трефузиса можно было описать одним словом.
Книги.
Книги, книги и книги. А за ними, как раз когда наблюдатель мог соблазниться мыслью, что увидел их все, – снова книги. Ходить здесь удавалось лишь по тропам, проложенным между штабелями книг. Человек, продвигавшийся среди доходящих ему до пояса книжных стопок, ощущал себя попавшим в лабиринт. Сам Трефузис называл эту комнату «либ-раринтом». Места, где можно было присесть, походили на лагуны в коралловых рифах книг.
Эйдриан всегда полагал, что человек, научившийся говорить на двадцати трех языках и читать на сорока, скорее всего и должен был бы скопить в процессе обучения некоторое количество полезных ему книг. Трефузис же относился к книгам крайне неодобрительно.
– Пустая трата деревьев, – сказал он однажды. – Дурацкие, некрасивые, неуклюжие, тяжелые штуковины. Чем скорее техника отыщет им надежную замену, тем лучше.
Еще в начале триместра он, рассердившись на какое-то глупое замечание Эйдриана, запустил ему в голову книгой. Эйдриан поймал ее в воздухе и был потрясен, увидев у себя в руке первое издание «Цветов зла».
– Книги – это не святые реликвии, – сказал в тот раз Трефузис. – Слова могут быть моей религией, но, когда дело доходит до богослужения, я предпочитаю церковь самую низкую. Храмы и кумиры мне не интересны. Суеверное идолопоклонство, присущее буржуазной одержимости книгами, досаждает мне до чрезвычайности. Подумайте, сколько детей забросило чтение лишь потому, что какой-то ханжа выбранил их за слишком небрежно перевернутую страницу. Мир полон людей, любящих повторять, что к книгам «следует относиться с уважением». Но говорил ли нам кто-нибудь, что с уважением следует относиться к словам! Нас с ранних лет учат почитать лишь внешнее и видимое. Совершенно жуткие литературные типы бормочут нечто бессвязное о книгах как об «объектах». Да, это первое издание. Еще и подарок Ноэля Аннана. Но уверяю вас, грязная, желтая livre de poche[29] принесла бы мне пользу не меньшую. Разумеется, я признаю щедрость Ноэля. Однако книга – это всего лишь продукт технологии. Если людям нравится собирать их и платить за ту или иную немалые деньги – тем лучше. Пусть они только не притворяются, что это призвание более высокое и разумное, чем коллекционирование табакерок или картинок из упаковок жевательной резинки. Я могу читать книгу, могу использовать ее в качестве пепельницы, пресс-папье, дверного стопора или даже орудия, которое можно метнуть в глупого юнца, отпустившего бессмысленное замечание. Ну-ка, подумайте еще.
И Эйдриан подумал еще.
Теперь он отыскал обратную дорогу к маленькой росчисти, посреди которой возлежал на софе Трефузис, пускавший в потолок колечки дыма.
– За ваше доброе здравие, – сказал, отхлебывая мадеру, Эйдриан.
Трефузис одарил Эйдриана широкой улыбкой.
– Не нахальничайте, – сказал он, – в вашем положении это неуместно.
– Не буду, профессор.
Последовало молчание, к которому Эйдриан с удовольствием присоединился.
Ему уже не однажды случалось стоять в том или ином кабинете, водя ступней по узору ковра, пока рассерженные люди описывали его недостатки и определяли дальнейшую участь. Однако Трефузис вовсе не был рассержен. На самом деле он скорее веселился. Не приходилось сомневаться, что ему в высшей степени наплевать, жив Эйдриан или уже помер.
– Будучи вашим старшим тютором, я обязан стоять на страже вашей нравственности, – наконец произнес Трефузис. – Попечитель же нравственности неизменно жаждет иметь безнравственного подопечного, и Господь посылает ему такового. Я заключу с вами сделку, вот как я поступлю. Я не стану до конца года тревожить ваш покой, но при одном условии. Я хочу, чтобы вы взялись за работу и произвели на свет нечто такое, что меня удивит. Вы говорите, что создать идею нельзя. Быть может, однако, ее можно открыть. Я питаю необъяснимый страх перед клише – вот! фраза «я питаю необъяснимый страх» как раз из тех отвратительных выражений, что сводят меня с ума, – и думаю, ваш долг перед самим собой, если уж пасть до оборота еще более тошнотворного, состоит в том, чтобы, энергично принявшись за дело, выковать в темной кузнице вашего превосходного мозга нечто совершенно новое. Сам я уже много лет как ничего оригинального не создавал, большинство моих коллег с самых пеленок ни разу не задумывались о том, чтобы совершить хотя бы краткую, не говорю уж отличающуюся новизной, прогулку по извивам своих умов. Но если вы представите мне работу, в которой будет присутствовать хотя бы семя новизны, призрак отблеска искры зачатка эмбриона намека на йоту тени частицы чего-нибудь любопытного, я сочту, что вы вознаградили меня за необходимость слушать, как вы отрыгиваете чужие идеи, а в придачу к этому вы и себе окажете неплохую услугу. Договорились?
– Я не вполне вас понял.
– Все очень просто! Любая тема, любой период. Вы можете принести мне трехтомное исследование или одну-единственную фразу, записанную на клочке бумаги. Питаю надежду еще увидеть вас до конца триместра. Это все.
Трефузис приладил на голову наушники и полез под софу за кассетой.
– Хорошо, – сказал Эйдриан. – Э-э…
Но Трефузис уже вернул носовой платок на лицо и погрузился в звуки Элвиса Костелло.
Эйдриан поставил пустой стакан и показал распростертой фигуре язык. Рука Трефузиса поднялась в американском приветственном жесте – палец, выставленный из стиснутого кулака.
Ну ладно, думал Эйдриан, шагая по Двору Боярышника к домику привратника. Оригинальная идея. Не так уж и сложно. В библиотеке этих идей наверняка хоть пруд пруди.
Войдя в домик, он заглянул в свой почтовый ящик. Самым большим предметом там оказался упаковочный пакет с приклеенной к нему надписанной от руки биркой: «Гренки – почтой». Эйдриан вскрыл его, и наружу выпали пакетик джема, два отсыревших гренка и записка. Он улыбнулся: лестный знак внимания от Ханта-Наперстка, память о днях, проведенных год назад в Чартхэм-Парке. Тогда он полагал, что жизнь в Кембридже будет совсем простой.
Записка была написана староанглийским готическим шрифтом, Хант-Наперсток потратил на нее не один, должно быть, час.
«И взял он хлеб и, возблагодарив, поджарил его и дал его мистеру Хили, сказав: приимите, ядите, сие есть тело мое. которое отдано вам: сие ядитe в мое воспоминание. И так же после вечери взял он пакетик Джема и, возблагодарив, отдал им, говоря: сие пожрите, ибо сие есть Джем Нового Завета, который размазывается для вас: сие творите, когда только будете есть его, в мое воспоминание. Аминь".[30]
Эйдриан улыбнулся еще раз. Сколько сейчас Хаиту? Лет, наверное, двенадцать или тринадцать.
Имелось также письмо от дядя Дэвида.
«Надеюсь, жизнью ты доволен. Каковы в этом году успехи колледжа в смысле „Кубка"? Есть шансы пробиться в первую лигу? Прилагаю к письму кое-что. Я-то знаю, как могут расти счета из столовой…»
Счета из столовой? Старикан, похоже, впадает в маразм. Впрочем, нежданные три сотни фунтов вещь полезная.
«В следующий уик-энд я буду в Кембридже, остановлюсь в „Беседке". Зайди ко мне в субботу вечером, в восемь. У меня есть для тебя одно предложение. С любовью, дядя Дэвид».
Кроме этого в почтовом ящике было полным-полно проспектов и листовок.
«На Лужайке стипендиатов Сент-Джонз-колледжа состоится чаепитие в знак протеста против американской поддержки режима в Сальвадоре».
«"Лицедеи" представляют „Ченчи" Арто в новом переводе Бриджит Арден. Кровосмешение! Насилие! Драма нашего времени в театре „Тринити Лекче"».
«Сэр Ян Гилмор расскажет в кембриджской Группе реформаторов-тори о своей книге „Правые изнутри". Крайст-колледж. Вход свободный».
«Доктор Андерсон прочитает в Обществе Геррика лекцию на тему „Этика панков как радикальная личина". Вход для не членов 1, 50 фунта».
Благоразумно отправив эти и иные листки в мусорную корзину, Эйдриан остался при чеке дяди Дэвида, гренках и счетах из книжного магазина «Хефферз» и от «Баркликард»[31], каковые он вскрыл по дороге к своему жилищу.
Он с изумлением обнаружил, что задолжал в «Хефферз» 112 фунтов и еще 206 в «Баркликард». За вычетом одного-двух романов, все книги, перечисленные в счете «Хефферз», были посвящены истории искусств. Одна лишь монография о Мазаччо, изданная «Темз и Хадсон», стоила 40 фунтов.
Эйдриан нахмурился. Названия книг казались ему знакомыми, однако он точно знал, что не покупал их.
Ускорив шаг, он перешел Мост Сонетов и, едва войдя в Президентский дворик, налетел на растрепанного старого дона в мантии. Старикан, в котором он узнал математика Эйдриана Уильямса, с криком «Упс!» повалился на землю, разбросав по траве бумаги и книги.
– Доктор Уильямс! – Эйдриан помог старику подняться. – Извините…
– О, привет, Эйдриан, – сказал Уильямс, беря его за руку и легко вскакивая на ноги. – Боюсь, мы оба не смотрели куда идем. Мы, Эйдрианы, печально известны своей рассеянностью, не так ли?
Оба заскакали по лужайке, подбирая бумаги.
– Знаете, – сказал Уильяме, – я вчера попробовал один из этих супов, что продаются в пакетиках. «Кнорр», так он зовется, К-Н-О-Р-Р, название, по правде сказать, очень странное, но, господи, до чего же он вкусный. Куриная лапшичка. Никогда не пробовали?
– Э-э, не думаю, – ответил Эйдриан, подбирая последнюю из книг и протягивая ее Уильямсу.
– Так попробуйте, обязательно попробуйте! Чудо что такое! Берете пакетик, не больший чем… погодите-ка, дайте подумать… чего же он не больше?
– Книжки в бумажной обложке? – переминаясь с ноги на ногу, подсказал Эйдриан.
Попавшись Уильямсу в лапы, вырваться было очень непросто.
– Ну, не совсем книжки, этот будет поквадратнее. Я бы сказал, не больше пластинки-сингла. Конечно, по площади он, вероятно, таков же, как книжка, но форма, понимаете ли, другая.
– Замечательно, – сказал Эйдриан. – Знаете, я должен…
– А внутри горстка самого невзрачного, какой только можно представить, порошка. Высушенные составляющие супчика. Кусочки курицы и маленькая такая, жесткая вермишелька. Весьма необычно.
– Надо будет попробовать, – сказал Эйдриан. – Ну, как бы там ни было…
– Высыпаете все это в кастрюльку, добавляете две пинты воды и греете.
– Да, хорошо, пожалуй, я прямо сейчас сбегаю в «Рэт Мэн» и куплю себе такой пакетик, – сказал Эйдриан и тронулся вспять.
– Нет, в «Рэт Мэн» его не продают! – сообщил Уильяме. – Я нынче утром перемолвился насчет этого супа с хозяином, так тот сказал, что к следующей неделе раздобудет его. На испытательный срок – посмотрит, возникнет ли спрос. А вот в «Сейнзбериз», на Сидни-стрит, его навалом.
Эйдриан почти уже добрался до угла дворика.
– «Сейнзбериз»? – переспросил он и взглянул на часы. – Хорошо. Как раз успею.
– Меня осенила счастливая мысль добавить туда яйцо, – кричал ему вслед Уильяме. – Сварил его прямо в супчике. Получилось немного похоже на итальянскую «страчиателлу». Пальчики оближешь.
Да, вы увидите, что в «Сейнзбериз» выставлен на той же полке овощной суп, и тоже Кнорра. Отличить один пакетик от другого очень трудно, но вы уж постарайтесь раздобыть куриную лапшичку…
Эйдриан свернул за угол и припустился к своей квартире. До него еще доносился голос Уильямса, радостно увещевавший его не кипятить суп, потому что это наверняка испортит вкус.
Возможно, вот это и имел в виду Трефузис, говоря, что другие столько не врут. Уильяме нес околесицу по поводу дурацкого супа не для того, чтобы добиться уважения или обожания со стороны другого человека, он искренне желал поделиться своим неподдельным энтузиазмом. Эйдриан сознавал, что никто и никогда не сможет предъявить ему обвинение в подобной неотфильтрованной открытости, по будь он проклят, если позволит осуждать себя за это.
Когда Эйдриан вошел в квартиру, Гэри слушал «Величайшие хиты» «Аббы» и перелистывал книгу о Миро.
– Привет, дорогой, – сказал он. – А я только что воду вскипятил.
Эйдриан подошел к проигрывателю, снял пластинку и запустил ее, точно тарелочку фрисби, в открытое окно. Гэри смотрел, как она порхает над двором.
– Что это с тобой сегодня?
Эйдриан извлек из кармана счета от «Хефферз» и «Баркликард» и расправил их прямо на книге Гэри.
– Известно ли тебе, что воровство, приобретение товаров путем обмана и подделок являются серьезными преступлениями? – поинтересовался он.
– Я тебе все отдам.
Эйдриан подошел к своему письменному столу, выдвинул ящик. Ни дисконтной карточки «Хефферз», ни его «Визы» в ящике не наблюдалось.
– Слушай, мог бы, по крайней мере, поставить меня в известность.
– Да мне такая вульгарность и в голову не пришла бы.
– Что ж, я тоже не хочу быть вульгарным, однако теперь ты должен мне в общей сложности… – Эйдриан полистал записную книжку, – шестьсот восемьдесят фунтов шестьдесят три пенса.
– Я же сказал, что отдам, разве нет?
– Я вот все гадаю – когда.
– Подождешь, не обеднеешь. Радовался бы лучше, что оказал услугу представителю рабочего класса.
– А тебе следовало бы гордиться тем, что ты позволяешь мне… о боже!
Из квартиры по другую сторону двора понеслись звуки «Аббы», распевавших «Танцующую королеву». Эйдриан захлопнул окно.
– Вот будешь теперь знать, как выбрасывать вещи в окно, – сказал Гэри.
– Я буду теперь знать, как не выбрасывать вещи в окно.
– Слушай, давай я тебе портретами заплачу. Эйдриан оглядел комнату. Стены были покрыты десятками изображавших его персону портретов. Масло, акварели, гуашь, гризали, рисунки пером, мелком, серебряным карандашом, углем, пастелью, распылителями акриловых красок, цветными карандашами и даже шариковой ручкой, – здесь были представлены все стили, от неопластицизма до протореализма.
Выбора относительно того, с кем он станет делить квартиру, никто Эйдриану не предоставлял. Во время жеребьевки билетики с его и Гэри именами были вытянуты вместе – вот они теперь вместе и жили. Черные кожаные штаны с цепями, выкрашенные хной волосы и широкий ассортимент режущих и колющих инструментов, свисавших с ушей Гэри, извещали мир о том, что он панк – единственный в Св. Матфее и потому являвший собой украшение колледжа, столь же чарующее и пугающее, что и современный Стаффорд-корт на другом берегу реки. Гэри был студентом отделения современных и средневековых языков, но на второй год собирался перебраться на отделение истории искусств; пока же он выражал свою преданность Эйдриану – подлинную или притворную, тот так и не смог разобраться, – третируя его, как страдающего слабоумием старшего брата, прибывшего с другой планеты. До Кембриджа Гэри не встречал ни одного ученика частной школы и, собственно, даже не верил в их существование. Эйдриан потрясал его куда сильнее, чем он Эйдриана.
– И тебе действительно прислуживала шестерка из младших классов и все такое?
– Да. Насколько я знаю, теперь эта традиция отмирает, однако, когда я там учился, каждый обязан был иметь шестерку.
– Черт, поверить не могу! И ты носил канотье?
– Когда требовалось.
– И полосатые брюки?
– В шестом классе.
– Мать-перемать! – Гэри аж скрючило от восторга.
– Я, знаешь ли, не один такой. Здесь десятки выпускников одной лишь моей школы и сотни ребят из Итона, Харроу и Уинчестера.
– Ну да, – сказал Гэри, – но вас же меньше семи процентов населения, так? Люди вроде меня, как правило, с людьми вроде вас не сталкиваются, разве что в коронном суде, когда вы напяливаете парики.
– У нас на дворе девятьсот семьдесят девятый, Гэри, люди вроде тебя формируют кабинет Тэтчер.
Эйдриан рассказал ему о школьной жизни, о журнале, о смерти Свинки Троттера. Даже про Картрайта рассказал.
Гэри немедля изобразил Эйдриана, каким он его себе представлял, – прогуливающегося в блейзере и белых крикетных штанах перед готическим дверным проемом, за которым перепархивали, точно вороны, учителя в академических шапочках и мантиях. Эйдриан же не сходя с места купил рисунок за десять фунтов. С тех пор он оплачивал марихуану и водку Гэри, приобретая по меньшей мере три произведения искусства в неделю. Правда, теперь Эйдриан думал, что вряд ли сможет вынести еще хотя бы один свой портрет – любого размера и ракурса, – о чем и сообщил Гэри.
– Ладно, – сказал Гэри, – в таком случае тебе придется подождать до конца года, тогда я все и верну.
– Да уж конечно, придется, – сказал Эйдриан. – Ах, коитус!
– Брось, ты можешь себе это позволить.
– Да я не об этом. О работе.
– О работе? Я думал, у нас тут университет.
– Да, хоть он и быстро обращается в технический колледж, – сказал, падая в кресло, Эйдриан.
– Значит, Трефузису твое эссе пришлось не по душе?
– Да нет, оно ему понравилось, в том-то все и горе, – сказал Эйдриан. – Эссе было хорошее. Произвело на него сильное впечатление. Но теперь ему угодно, чтобы я сочинил что-нибудь значительное. Что-нибудь потрясающее и оригинальное.
– Оригинальное? По филологии?
– Нет, по любому предмету. Вообще-то я, наверное, должен чувствовать себя польщенным.
Ну вот, если честно, в чем дело? Он же мог сказать Гэри правду, верно? А он соврал, просто по привычке. Что это – гордыня? Страх? Эйдриан закрыл глаза. Трефузис был прав. Прав и при этом смехотворно заблуждался.
Почему он не ощущает счастья? Дженни любит его. Гэри его любит. Мама шлет ему деньги. Дядя Дэвид шлет ему деньги. Сейчас майский триместр его первого университетского года. Погода прекрасная, экзамены сдавать не нужно. Все сложности позади. Кембридж в его распоряжении. Он уже решил, что останется здесь после выпуска, будет преподавать. Все, что от него требуется, – заучить наизусть побольше хороших эссе и выпаливать их трехчасовыми порциями. Трефузис, слава богу, экзаменов не принимает.
Он повесил Джереми, свой блейзер, на Энтони, вешалку.
– Давай гренки есть, – сказал он. – Хант-Наперсток прислал.
II
– А теперь, джентльмены, – произнес президент Клинтон-Лейси, – мы переходим к вопросу о МНИ и внештатных сотрудниках. Интересно было бы знать…
Гарт Мензис, профессор гражданского права, закашлялся в окружившем его густом облаке дыма, который извергала трубка Манро, казначея колледжа.
– Извините, господин президент, – сказал он, – насколько я помню, мы все согласились с тем, что не будем курить на заседаниях совета.
– Что ж, это определенно верно. Адмирал Манро, вы не могли бы?..
Манро пристукнул трубкой по столу и смерил Мензиса взглядом, полным кромешной злобы. Мензис улыбнулся и перебросил леденец от одной щеки к другой.
– Благодарю вас, – произнес Клинтон-Лейси. – Итак. МНИ и внештатные сотрудники. Как хорошо известно всем присутствующим, в последнее время…
Манро шумно потянул носом воздух.
– Извините, господин президент, – сказал он. – Только ли я один улавливаю стоящий в этой комнате тошнотворный запах мяты?
– Э-э?..
– Да, действительно, запах крайне неприятный. Интересно было бы знать, откуда он взялся?
Мензис с сердитым видом вынул изо рта леденец и уронил его в пепельницу перед собой. Манро блаженно улыбнулся.
– Благодарю вас, – произнес Клинтон-Лейси. – Коллеги, перед нами стоит проблема сохранения работы с аспирантами на прежнем уровне. Как вам известно, существует немалое число младших научных исследователей и внештатных сотрудников, пользующихся нашими грантами и пособиями. И вы, разумеется, хорошо осведомлены о том, какие установившиеся в нашей экономической системе ветра дуют в нашу сторону со стороны Вестминстера.
Адмирал Манро демонстративно передвинул пепельницу к середине стола, давая понять, что мятный запах все еще донимает его.
Алекс Кордер, теолог, сидевший на дальнем от президента конце стола, испустил резкий смешок.
– Варвары, – сказал он. – Все они варвары.
– Правительство, – продолжал Клинтон-Лейси, – обоснованность доктрин которого мы здесь обсуждать не будем, определенно заняло в отношении университетов позицию, которая не может не внушать нам тревогу.
– Премьер-министр происходит из академической среды, – сообщил Кордер.
Брови Гарта Мензиса поползли вверх.
– Я уверен, никто не стал бы обвинять премьер-министра в наличии у нее научной предубежденности.
– Это почему же? – поинтересовался Манро.
– Ладно, каковы бы ни были ее предположительные пристрастия, – сказал Клинтон-Лейси, – в правительстве утвердилось мнение, что отделения гуманитарных наук с их чрезмерно высоким конкурсом абитуриентов следует, э-э, притормозить, оказав дополнительную поддержку дисциплинам, которые способны более продуктивно… о! Профессор Трефузис!
Трефузис со свисающей с губы сигаретой стоял в дверях, с некоторой озадаченностью озираясь по сторонам – словно был не вполне уверен, что попал в нужную комнату и на нужное заседание. Полный неодобрения взгляд Мензиса, похоже, успокоил его; Трефузис вошел и скользнул в пустое кресло рядом с адмиралом Манро.
– Итак, Дональд, с сожалением должен отметить, что вас опять что-то задержало, – произнес Клинтон-Лейси.
Трефузис молчал.
– Надеюсь, ничего серьезного?
Трефузис приветливо улыбнулся всем присутствующим.
– Надеюсь, ничего серьезного? – повторил президент.
Трефузис, осознав, что к нему обращаются с вопросом, расстегнул куртку, выключил висящий на поясном ремне плеер и снял наушники.
– Простите, магистр, вы что-то сказали?
– Ну хорошо, да… мы обсуждали сокращение средств, выделяемых гуманитарным наукам.
– Гуманитарным наукам?
– Вот именно. Итак..
Мензис закашлялся и пододвинул пепельницу к Трефузису.
– Спасибо, Гарт, – сказал Трефузис, стряхивая с сигареты пепел и снова затягиваясь. – Вы очень любезны.
Президент стойко продолжал:
– В течение по меньшей мере ближайших двух лет мы будем испытывать недостаток в средствах, что не позволит принимать новых младших научных исследователей на отделение гуманитарных наук.
– Ах, как это печально, – произнес Трефузис.
– Вас не тревожит судьба вашего отделения?
– Моего отделения? Мое отделение занимается английским языком, магистр.
– Вот и я о том же.
– Какое же отношение имеет английский язык к «гуманитарным наукам», что бы те собою ни представляли? Я занимаюсь наукой точной, филологией. А мои коллеги – другой точной наукой, анализом литературы.
– Что за дребедень, – сказал Мензис.
– Нет, ну зачем же так сразу обзывать мою науку потаскухой, пусть даже и райской? – удивился Трефузис.
– Профессор Трефузис, – сказал Мензис, – здесь происходит протоколируемое заседание взрослых людей. Если вы не в состоянии вести дебаты в рамках приличий, то вам, возможно, лучше удалиться.
– Мой дорогой старина Гарт, – ответил Трефузис. – Я могу лишь сказать, что вы начали первым. Язык – это арсенал, наполненный самым разным оружием; и если вы размахиваете таковым, не проверив, заряжено ли оно, не удивляйтесь, что оружие будет время от времени выпаливать вам в лицо. Слово «дребедень» означает «райская потаскуха» – от нижнегерманского, о чем мне вряд ли стоит вам напоминать, «drabbe» плюс «Eden»,сиречь «Эдем», он же «Рай».
Мензис побагровел, однако не промолвил ни слова.
– Ну, что бы оно ни означало, Дональд, – сказал президент, – мы обсуждаем проблему ресурсов. Мы можем по-разному оценивать правильность или неправильность политики правительства, однако финансовая реальность такова, что…
– Реальность, – произнес Трефузис, предлагая сигареты всем сидящим за столом, – состоит, как всем нам известно, в том, что все больше и больше молодых людей просят принять их в этот колледж этого университета, дабы они могли изучать английский язык и литературу. На каждое место нашего английского отделения претендует куда больше поступающих, чем в любом другом отделении любого другого университета страны. И если применить к нам нормы рыночной экономики, каковые, сколько я понимаю, должны почитаться священными всеми пускающими деньги на ветер простофилями и пустословами, из коих состоит правительство, то, конечно, нам следовало бы выдавать не меньше стипендий, а больше.
– Там считают, Дональд, – сказал президент, – что ваши выпускники не обладают компетентностью и эрудицией, которые способны принести пользу стране. Результаты исследований в ботанике или генетике – или даже в моей сфере, в экономике, – представляют для мира ощутимую ценность…
– Слушайте, слушайте, – сказал Мензис.
– Тоже та еще дребедень, – объявил Манро, принимая от Трефузиса коробок спичек.
– Между тем на вас и ваших коллег, – продолжал, проигнорировав обоих, президент, – взирают как на все более и более нестерпимое бремя налогоплательщика. Вы не можете открыть ничего интересного, не можете предложить вашим аспирантам что-либо, способное сделать их полезными для промышленности или рентабельного хозяйства. Вы знаете, это не мои воззрения. Соответствующие аргументы и контраргументы уже множество раз перебирались за этим столом, и я не призываю вас вновь заниматься ими. Я могу только сказать, что денег в этом году не будет.
– Ну что же, – сказал Трефузис, – это заставило бы сэра Кита Джозефа[32] и его друзей содрогнуться от ужаса, не так ли? Нет-нет. Пришла пора действовать. С одобрения коллег, я мог бы натаскать отборную компанию первоклассных аспирантов и еще до июня попасть в Уайтхолл.
– Подобная поза озлобленного воинствующего художника представляется мне неуместной и старомодной, – сказал Мензис. – Общество больше не может позволить себе содержать всех этих шутов, обществу надоело, что его лупят по голове пустыми, добытыми из свиней мочевыми пузырями. Мир устал от избытка занимающихся ерундой гуманитариев, от их высокомерия и бесполезности в реальной жизни. Пора вам порастрясти жирок.
– Вы правы, конечно, – согласился Трефузис – Теперь мне это ясно. Мы нуждаемся в юристах. В одной волне юристов за другой.
– Ну разумеется, очень легко смеяться над…
– Над некоторыми вещами смеяться, безусловно, очень легко, – признал Трефузис. – Странно только, что я всегда находил затруднительным насмешки над чем-либо, обладающим ценностью. Другое дело разного рода мишура и бессмыслица – хотя, возможно, я только один такой и есть.
III
– Так что сама понимаешь, моя медовая обжималочка, – произнес Эйдриан, – придется углубиться в какие-нибудь дурацкие исследования, иначе меня выведут отсюда за мое божественного абриса ухо.
– Что же, и тебе немного потрудиться будет не вредно, – ответила Дженни и укусила его за сосок.
– Какие жуткие вещи ты говоришь. А сейчас спустись немного пониже и поработай губами — теперь моя очередь кончать, да и в университетскую библиотеку пора. Дженни села.
– Вот хорошо, что напомнил, – сказала она. – Мы с Мэри разослали письма всем старшим тюторам Кембриджа.
– Боже милостивый, – откликнулся Эйдриан и вновь притянул ее голову к своему животу, – сейчас не время судачить о ваших девичьих влюбленностях.
– Нет, подожди, – выпрямилась Дженни. – Это насчет порнографии.
– Насчет чего?
– Ты же знаешь, я хожу на лекции Тима Андерсона, «Деррида и несходство полов».
– Послушай, если у тебя занят рот, так потрудись хотя бы руками. Под кроватью есть немного масла для новорожденных.
– Так вот, на прошлой неделе он показывал нам образчики порнографии. Их были целые коробки. И все из университетской библиотеки. У них же право обязательного экземпляра, понимаешь, так что они получают по экземпляру любого издания. Каждого, какое выходит в свет.
– Постой, ты хочешь сказать… каждого-каждого?
– Каждого-каждого. Там столетия порнухи, вплоть до сегодняшнего дня. Подвалы библиотеки забиты тоннами самых унизительных и мерзких материалов. Картинки с ампутантами, детьми, всякими приспособлениями – там есть вещи, каких ты и вообразить-то не сможешь.
– Ты еще не знаешь, на что способно мое воображение.
– Я сходила в библиотеку, посмотрела кое-что. Все, что мне для этого потребовалось, – подпись Элен Гринман. Я ей сказала, что это связано с лекциями Тима Андерсона. Так вот, я считаю, таким материалам в Кембридже не место. Никаких научных оправданий они не имеют. Они унизительны для женщин, их следует сжечь.
– И унизительны также, нисколько этому не удивлюсь, для животных, детей и всяких приспособлений.
– Эйдриан, это не шутки. Я считаю, что УБ, храня подобную дрянь, тем самым облагораживает ее. Поэтому мы с Мэри стараемся добиться ее устранения.
– Что ты, собственно, видела, если точно?
– Ну, тебя приводят в отдельную комнату…
– Расскажи поподробнее… и про левую руку не забывай. Вот так. Чуть быстрее. Да! Что да, то да! Итак, что же ты видела?
– Ну, там была одна картинка, на которой женщина берет пирог со свининой…
IV
– Диспозиция такова, Гэри, – сказал Эйдриан, вернувшись из Ньюнема в Св. Матфея. – Все там, весь index expurgatorius[33], только и ожидающий человека, который примется пускать над ним слюни.
А вот это – все, что требуется библиотекарю, дабы тебя к нему подпустить.
Он вручил Гэри листочек бумаги, на котором значилось: «Разрешаю Дженнифер де Вулф, студентке нашего колледжа, доступ к следующим специальным материалам…»
Далее следовал перечень названий книг и журналов, под коим стояла подпись: «Элен Гринман, старший тютор, Ньюнем-колледж».
У Гэри отвисла челюсть.
– «Эльза и бык», «Молодые монашки», «Утехи в концлагере»… Ты шутишь… «Моя пылкая дочурка», «Висельник», «Молодая и красивая», «Тина-Тампон», «Первый перепих педрил», «Фантазии с клейкой лентой». С клейкой лентой? Иисус обескровленный!
Эйдриан рылся в ящике письменного стола.
– Думаю, ты согласишься, мимо такого пройти трудно. Да где же она… ага. – Он выудил из ящика исписанный листок. – Так вот, Гэри, мой старый друг-приятель, старый ты пачкун. Хочешь скостить со своего долга… пятьдесят фунтов? Разумеется, хочешь. Мне нужно, чтобы ты изучил это письмо, уделив особое внимание подписи.
Гэри взял листок.
«Дорогой мистер Хили, доктор Питтауэй сообщил мне, что Вы нуждаетесь в совете относительно выпускных экзаменов по английскому языку со специализацией по филологии. Я не забыл, каким прекрасным арбитром Вы показали себя при нашей встрече прошлым летом в Чартхэм-Парке, и запомнил Вас как многообещающего, сметливого и способного молодого человека. А потому буду рад предложить вам любую помощь, какая окажется мне по силам. Мой адрес Двор Боярышника, A3. Буду ждать Вас 4-го, в среду, в десять утра, – если только Вы не назначите другой срок. И пожалуйста, не забудьте прихватить с собой Ваши умственные способности».
– Ну и что? – спросил Гэри.
– С подделкой моей подписи, изысканной и элегантной, ты справляешься. Надеюсь, эти каракули не лежат за пределами твоих возможностей?
– Ты грязный развратник.
– Совершенно верно.
V
Эйдриан шел через Клэр-колледж к университетской библиотеке. Нелепость этого здания, ракетой взмывавшего впереди, всегда раздражала его. Здесь не было женственной округлой грации Бодлианской библиотеки Оксфорда или библиотеки Британского музея, ни о какой красоте тут не могло идти и речи. Здание устремлялось вверх, точно раздувшийся фаллос, норовящий проткнуть облака. Примерно тот же принцип, полагал Эйдриан, что и в готических шпилях. Однако единение библиотеки и небес дало бы слишком уж мирской образчик того, как слово становится плотию[34].
Войдя в библиотеку, он направился прямиком в зал каталогов. Покопался в картотеке, выписывая особо обнадеживающие названия. Вокруг сновали с книгами под мышками аспиранты и отчаявшиеся студенты третьего курса – серые физиономии, личные бездны эрудиции в глазах. Он заметил Джермейн Грир[35] в обнимку со стопкой сильно потрепанных книг и Стивена Хокинга[36], лукасианского профессора математики[37], выезжающего в инвалидном кресле с моторчиком в соседний зал.
Здесь ли мое место? – думал Эйдриан. Столько трудов. Столько пота. Ни коротких путей, ни жульничества, ни списывания, ни мухлежа? Конечно, здесь. Любой физик трудится ничуть не больше моего. Он просто сдувает идеи Господа Бога. Да еще и неверно их понимая, как правило.
Гэри смотрел, как Трефузис – с кейсом в руке и летящим следом облаком табачного дыма – покидает свою квартиру. Обождав минут пять, Гэри перешел Мост Сонетов и поднялся на второй этаж.
Защелка дубовой двери податливо уступила нажиму Эйдриановой «Баркликард» – как и предрекал Эйдриан. Гэри включил свет и оглядел раскинувшийся перед ним книжный Манхэттен.
Должен быть где-то здесь, сказал себе Гэри. Придется подождать, пока он сам себя не обнаружит.
Эйдриан подошел к служебной стойке читального зала и встал, ожидая, когда на него обратят внимание. Очень ему хотелось хлопнуть по стойке ладонью и крикнуть: «Продавец!» Однако он ограничился вежливым покашливанием.
– Сэр?
При общении с Эйдрианом библиотекари неизменно демонстрировали апатию и пренебрежительность, едва-едва не переходившие в откровенную грубость. Иногда он, просто развлечения ради, просил кого-нибудь из них принести книгу, написанную, скажем, на редком диалекте индейцев виннебаго, и получал ее от библиотекаря, морщившего нос с таким выражением надменного превосходства, точно сам он прочитал ее бог весть сколько лет назад и давно уже миновал стадию, на которой младенческая белиберда подобного рода еще могла представлять для него хотя бы отдаленный интерес. Трудно сказать, видели они, неким непостижимым образом, Эйдриана насквозь или питали презрение ко всем первокурсникам без разбору. Та библиотекарская особь, что приближалась к нему сейчас, выглядела неприязненной и необщительной сверх обычного. Эйдриан одарил ее дружеской улыбкой.
– Прошу вас, – звенящим голосом произнес он, – я хотел бы получить «Клевую пару буферов», «Мясистые жопки в ямочках» и «Давина шалит с ослом», если она уже не на руках… ах да, и еще, я думаю, «Минет в инвалидной коляске»… Библиотекарь сдвинул очки вверх по носу.
– Как?
– А кроме того, «Малыши и малышки в скаутском лагере», «Фидо заглатывает», «Пей мои писи, сучка» и «Хористки встают в очередь». По-моему, все. Хотя нет, еще «Дневник Марианны». Это викторианское издание. Вот мое разрешение.
И Эйдриан помахал листком бумаги.
Читая написанное на нем, библиотекарь то и дело сглатывал.
Ай-ай-ай, подумал Эйдриан. Проявление Озабоченности и Замешательства. Нарушение Правила Номер Один Гильдии Библиотекарей. Если он и впредь будет так неосмотрителен, его с позором вышибут отсюда.
– Простите, а чья это подпись?
– А, это Дональда Трефузиса, – сказал Эйдриан. – Моего старшего тютора.
– Одну минутку.
Библиотекарь прошел в дальний конец зала и показал там листок какому-то пожилому джентльмену.
Да уж, сродни попытке обналичить чек на крупную сумму – такие же совещания шепотком и взгляды украдкой. Эйдриан отвернулся и неторопливо обозрел читальный зал. Десятки лиц мигом уткнулись в книги. Десятки других продолжали таращиться на него. Этим он благосклонно улыбнулся.
– Простите, мистер… мистер Хили, не так ли?
К стойке приблизился пожилой библиотекарь.
– Да?
– Могу я спросить вас, ради какой цели вы желаете увидеть эти… э-э… издания?
– Ради исследовательской. Я пишу диссертацию «О проявлениях эротических отклонений в…»
– Понятно. Это похоже на подпись профессора Трефузиса. Однако, думаю, мне стоит позвонить ему, если вы не против. Для верности.
Эйдриан небрежно взмахнул рукой:
– О, вряд ли стоит тревожить его из-за таких пустяков, вам не кажется?
– Студентам младшего курса подобных разрешений, как правило, не выдают, мистер Хили.
– Эйдриан.
– Мне так будет спокойнее. Эйдриан переглотнул.
– Ну разумеется, если это представляется вам необходимым. Хотите, могу дать его домашний номер. Это будет…
Библиотекарь учуял запах победы.
– Нет-нет, сэр. Мы и сами его найдем, не сомневаюсь.
Гэри удалось-таки отыскать телефон – под оттоманкой. Трубку он снял после пятого звонка.
– Да? – отдуваясь, произнес Гэри. – Трефузис слушает. Посрать толком не дадут, в чем дело?.. Кого?.. Да говорите же… Хили?.. «Проявление эротических отклонений…»? Да, а что такое?.. Конечно, это моя подпись… Понятно. Знаете, надо все-таки немножко верить людям. Вы руководите библиотекой, а не оружейным складом, вся эта бюрократия просто… Не сомневаюсь, однако то же самое говорили охранники Бухенвальда… Очень хорошо, очень хорошо. Не обращайте внимания, у меня нынче с утра дурное настроение… Ладно. Всего хорошего.
– Вроде бы все в порядке, мистер Хили. Вы же понимаете, мы обязаны были проверить.
– Конечно, конечно. Библиотекарь гулко проглотил слюну.
– Нам потребуется некоторое время, сэр, чтобы… э-э… установить местонахождение этих изданий. Вы не могли бы подойти через полчаса? Мы отведем вам отдельный кабинет.
– Благодарю вас, – сказал Эйдриан. – Вы очень добры.
Пружинистой походкой он направился по коридору в библиотечное кафе.
«Я могу облапошить любого, – думал он, – и в любое время».
Какой-то человек миновал его.
– Доброе утро, мистер Хили.
– Доброе утро, профессор Трефузис, – ответил Эйдриан.
Трефузис! Эйдриан замер на месте. Идет в читальный зал! Даже Трефузису не по силам ответить на звонок в Св. Матфей, находясь в это время в УБ.
Он попытался окликнуть профессора, но сумел выдавить из себя лишь хриплый шепот:
– Профессор!.. Профессор!
Трефузис уже достиг двери читального зала. И удивленно обернулся:
– Да?
Эйдриан рысью устремился к нему.
– Прежде чем вы войдете, сэр, можно вас на два слова?
– Разумеется. А в чем дело?
– Могу я пригласить вас в кафе и угостить булочкой?
– Что?
– Ну, я подумал… вы собираетесь взять там какую-то книгу или просто поработать?
– Вообще-то просто поработать.
– О, я бы на вашем месте туда не заходил. Трефузис улыбнулся:
– Вы уже попробовали поработать и нашли это занятие непосильным? Боюсь, в моем случае иного выбора нет. В конце концов, должен же кто-то писать статьи, которые будут сдувать будущие первокурсники.
Он положил ладонь на дверную ручку. Эйдриан с великим трудом удержался от того, чтобы не схватить профессора за рукав.
– Там все забито. Ни одного свободного стола. Потому я вас и остановил. Надеялся, что вы скажете мне, где еще можно найти местечко для работы.
– Ну, насколько я знаю, в читальне на десятом этаже вам обычно никто не мешает. Загляните туда. Однако должен сказать, что работа в одной комнате с вами представляется мне несколько затруднительной. Пожалуй, я все же зайду и посмотрю, не найдется ли здесь свободного отдельного кабинета.
И он потянул дверь на себя. Эйдриан только что не завизжал.
– Да нет, сэр, все в порядке! Вы можете пойти на десятый. Я вот сию минуту вспомнил, что мне необходимо уйти. У меня… это… встреча назначена.
Трефузис в веселом недоумении отступил от двери.
– Прекрасно. Знаете, я с великим нетерпением ожидаю возможности увидеть созданный вами шедевр. Многие полагают, что наш предмет – это так, витание в облаках, сладкие речи, пустой галдеж, а говоря совсем уж просто, пердеж. Но, как вы уже, без сомнения, обнаружили, это терпение и труд, от «Беовульфа»[38] до Блумсбери[39]. Терпение, терпение и терпение. Труд, труд и труд. Мне нравятся ваши «Кикерсы». Всего доброго.
Эйдриан взглянул себе на ноги. Действительно неплохи.
– Спасибо, профессор. Ваши тоже полный блеск. - С бездыханным облегчением он смотрел, как Трефузис сворачивает за угол коридора, к лифтам.
Вернувшись к себе в Св. Матфея, Эйдриан обнаружил, что Гэри сдвинул всю мебель к стенам и разостлал по полу огромный лист бумаги, на котором уже и рисовал что-то углем.
– Ну, как все прошло?
– Сказочно. Легче легкого. Ты не забыл сунуть в рот носовой платок?
– Вот еще! Уж на что голос Трефузиса совсем не похож, так это на голос человека с носовым платком во рту. Я просто взял двумя октавами выше и притворился разозленным.
Некоторое время Эйдриан наблюдал за манипуляциями Гэри.
– Ладно. Второй вопрос. Что это ты делаешь в моей комнате?
– В нашей комнате.
– В нашей комнате, которую я обставил и оплатил.
– Это картон.
– Картон?
– В изначальном смысле слова.
– А, так, значит, изначальный смысл слова «картон» – это «паршивая пачкотня»?
– Изначальный смысл слова «картон» – это «бумажный лист, на который наносят рисунок фрески».
Эйдриан прошел по замусоренному полу и налил себе стакан вина из стоявшей на каминной полке полупустой бутылки. Полупустой бутылки лучшего, какое можно добыть в колледже, белого бургундского, отметил он про себя.
– Фрески?
– Ага. Когда закончу, то просто повешу лист на стену, сделаю по линиям проколы, перенесу рисунок на влажную штукатурку и начну как можно скорее…
– И где будет находиться влажная штукатурка?
Гэри ткнул пальцем в пустой участок стены.
– Думаю, здесь. Отдерем старую, наложим на дранку новую, и дело в шляпе.
– Ничего себе в шляпе. Очень нужна мне такая шляпа. Если эта твоя шляпа подразумевает уничтожение пятисотлетней…
– На самом деле – шестисот. Я собираюсь изобразить Британию семидесятых. Тэтчер, Фут[40], марши Движения за ядерное разоружение, безработица. В общем, все. А как напишу, закроем ее деревянными панелями. Правда, на них придется потратиться. Панели надо будет на петли посадить, понимаешь? Через сотню лет этой комнате цены не будет.
– Ей и без того уже нет цены. Может, оставим ее в покое? В ней пил чай Генри Джеймс. Вот в этой самой спальне Ишервуд[41] предавался любви с исследователем хоровой музыки. Марло[42] танцевал с Кидом[43] гальярду на ее половицах.
– И Эйдриан Хили заказал в ней Гэри Коллинзу его первую фреску.
– А что скажет наша горничная?
– Она лишь воспрянет духом. Все интереснее, чем собирать загаженные трусы этого экономиста напротив.
– Пошел ты на хрен, Гэри. Почему при разговоре с тобой я всегда ощущаю себя зажиточным ханжой?
– Фигню несешь.
Эйдриан оглядел комнату, пытаясь справиться с охватившей его буржуазной паникой.
– Значит, говоришь, панели на петлях?
– Они не так уж и дороги, если тебя именно это тревожит. Я потолковал с одним малым, который работает на строительной площадке Робинсон-колледжа. Он говорит, что сотен за пять добудет нам отличное дерево, а с штукатуркой и переделками вообще задаром поможет, если я дам ему себя отодрать.
– Не совсем в духе великой традиции, а? Я к тому, что папа Юлий и Микеланджело вряд ли заключали схожее соглашение по поводу Сикстинской капеллы. Если, конечно, я не сильно ошибаюсь.
– Я бы на твоем месте об заклад биться не стал. В конце концов, кто-то меня драть должен, ведь так? – Гэри ткнул в Эйдриана пальцем. – Ты не желаешь, вот и приходится подыскивать других. По-моему, разумно.
– Внезапно вся твоя логика стала для меня кристально ясной. Но как же работа? Не забывай, я должен основательно поработать в этом триместре.
Гэри встал на ноги и потянулся.
– Пошла она в жопу, вот что я скажу. Ну а как там твоя порнуха?
– Невероятно. Ты в жизни ничего подобного не видел.
– Что, пакостные картинки?
– Не думаю, что смогу когда-нибудь снова взглянуть в глаза лабрадору. Однако, насколько бы все это ни сокрушило мою веру в человечество, должен сказать, что мы, люди двадцатого века, выглядим по сравнению с викторианцами образчиками нормальности.
– Ты это насчет викторианского порно?
– Именно.
– Так чего они делали-то? Я часто об этом задумывался. Были у них такие же концы и пипки и прочее?
– Конечно были, глупое ты дитя. И крайне пикантные издания свидетельствуют, что у них много чего еще было. К примеру…
Эйдриан вдруг замолк. Его осенила идея. Он взглянул на картон Гэри.
– Почему бы и нет?
Бессмысленно, бесчестно, бесстыдно, но осуществимо. Придется, конечно, потрудиться, и потрудиться весьма основательно, однако это будет труд правильного сорта. Почему ж не попробовать?
– Гэри, – сказал он. – Я сию минуту понял, что стою на перекрестье жизненных дорог. Одна ведет к безумию и наслаждению, другая – к душевному здравию и успеху. Какую мне избрать?
– Тут уж ты сам решай, приятель.
– Позволь мне изложить это так. Хочешь, чтобы я скостил тебе весь твой долг и выдал еще пять сотен на деревянные панели? У меня есть для тебя работа.
– Идет.
– Вот и умница.
Трефузис подошел к стойке читального зала. Молодой библиотекарь с удивлением воззрился на него.
– Профессор Трефузис?
– С добрым утром! Как вы себя нынче чувствуете?
– Очень хорошо, спасибо, сэр.
– Вы не могли бы мне помочь?
– Я для того здесь и сижу, профессор.
Трефузис склонился к библиотекарю и постарался заговорщицки понизить голос – задача для него непростая. Умение говорить приглушенным тоном среди множества его дарований не числилось.
– Уважьте каприз человека, который состарился и помешался раньше положенного, – произнес он голосом, достаточно тихим для того, чтобы каждое слово было услышано всего только в первых двенадцати рядах стоящих за его спиною столов, – и скажите, существовала ль причина, по которой я не мог прийти сюда час назад?
– Прошу прощения?
– Почему я не мог появиться здесь час назад? Что здесь происходило?
Библиотекарь вытаращил глаза. Человек, обслуживающий ученых мужей, поневоле привыкает к разного рода умственным расстройствам и поведенческим отклонениям. Однако Трефузис всегда казался библиотекарю приятно и живительно лишенным каких бы то ни было нервических недочетов. Хотя, с другой стороны, старые профессора, как принято говорить, не теряют мест, они теряют представление о месте, в котором пребывают.
– Ну, если не считать того обстоятельства, что час назад вы просто физически не могли находиться здесь… – начал библиотекарь.
– Не мог?
– Ну да, вы же были в Святом Матфее, разговаривали по телефону с мистером Лейландом.
– Я разговаривал по телефону с мистером Лейландом? – переспросил Трефузис. – Ну конечно! Господи, да что же у меня с памятью?.. Стало быть, Лейланд звонил мне, так? По телефону, ну да, разумеется. Все верно. Вот теперь я все отчетливо вспомнил, потому что как раз по телефону с ним и говорил. Он позвонил мне, по телефону, и спросил насчет… насчет… О чем он меня спросил?
– Он хотел проверить, давали вы вашему студенту разрешение на то, чтобы тот читал эти… эти издания с ограниченным доступом.
– То есть мистеру Хили, верно?
– Да. Все правильно, не так ли? То есть вы подтверждаете…
– О да. Конечно, все правильно, конечно. Я просто… Побалуйте меня еще разок, милый юноша, и позвольте взглянуть на названия книг, с которыми пожелал ознакомиться мистер Хили.
VI
– Разорвите меня на куски, сэр! – сказал мистер Полтернек. – Разорвите, коли маленькие резвунчики, отвечающие особливым вашим потребностям, не дремлют сейчас, свернувшись в невинный клубочек, в одной из задних комнат этого дома. Вы можете прогнать меня пинками отсюда и до Чипсайда, если это не истиннейшая из истин, какую когда-либо изрекал человек. Миссис Полтернек подтвердит вам это, мой дядюшка Полтернек подтвердит, и любой знающий меня человек никогда не скажет противного, даже если вы бросите его в кипяток, или ввергнете в пещь огненную, или вздернете на дыбе, дабы установить истинное его мнение.
– И я могу верить в добросовестность вашу по этой части? – спросил Питер.
– Бог ты мой, мистер Флауэрбак. Я просто расплачусь, ежели вы усомнитесь в ней! Моя добросовестность по этой части есть подлинный факт, на который вы можете полностью положиться. Добросовестность – мое знамя, мистер Флауэрбак. Твердыня, сэр, мой монумент. Моя добросовестность есть не нечто эфирное, мистер Флауэрбак, она осязаема и зрима, и, если это не так, секите меня розгами, пока не выступит кровь.
– В таком случае мы можем, я полагаю, перейти к делу?
– Ну что же, сэр, – произнес мистер Полтернек, извлекая из кармана нелепейший из когда-либо существовавших пунцового шелка носовой платок и промокая им лоб. – Он резвунчик весьма особенный, наш Джо Коттон. Весьма и до крайности. Даже джентльмену, подобному вам, хорошо разбирающемуся, как я вижу, в юных шалунах, такого видеть еще не приходилось. Я мог бы сонетировать сонеты, мистер Флауэрбак, о золоте его локонов и незапятнанной гладкости юной кожи. Я мог бы сбалладировать вам баллады, сэр, о светлой округлости его крупа и райском саде, который поджидает вас внутри оного. Я содержу конюшню юных жеребчиков, сэр, равной коей, скажу вам с уверенностью, не отыщется ни в одном уголке Сити и уж тем более за пределами его, и юный Коттон, сэр, есть мой призовой жеребец. Если таковой рекомендации вам не достаточно, сэр, можете сию же минуту повесить меня за шею прямо на притолоке двери старого дядюшки Полтернека, прикончить меня, сэр, как лживого плута.
С трудом удержался Питер от того, чтобы не поймать Полтернека на слове. Боязнь смрадных газов, кои могли бы истечь из легких подобного существа, когда бы он поступил с ним именно так, и грязи, каковая запятнала б его, прикоснись он к подобной твари, умерила мстительный гнев Питера, – как равно и мысль о том, что ему надлежит хладнокровно довести это дело до конца.
– Полагаю, вы ничего не способны поведать мне о происхождении его? – бесстрастно осведомился Питер.
– Касательно его происхождения, сэр, тут я держусь мнения – и миссис Полтернек разделяет его, да и дядюшка Полтернек навряд ли думает иначе, – что он послан нам Небесами, сэр. Послан с Небес, чтобы напитать хлебом насущным меня и родню мою и дать наслаждение и великое благо таким джентльменам, как вы, сэр. Таково мое мнение о его происхождении, и не родился еще человек, который сумел бы меня разуверить. Настолько красивого паренька вам, сэр, видеть еще не доводилось. А сколь он уступчив, сколь сноровист в Искусстве, коему призван служить! Видели б вы его в деле, сэр, – это попросту чудо. Говорят, вместе с ним Небеса послали нам и его юную сестру.
– Девочку? Не были ль они близнецами?
– Ну-с, раз уж мы заговорили об этом, сэр, мне приходилось слышать упоминания о том, что девочка походила на него как две капли воды! Золотистая красавица с таким же цветом лица, истинная находка для тех, кто тяготеет к подобным качествам нежного пола. Где она может сейчас обретаться, я не ведаю, да и не интересуюсь проведать. Мое дело – юные петушки, сэр, возиться с курочками – занятие для мирного джентльмена вроде меня чрезмерно затейливое. Разорвите меня на куски, если они не плодят все новых курочек, еще не успев оправдать потраченных на них денег, а как, – прохрипел мистер Полтернек, – может деловой человек достичь процветания своего домашнего очага, если товар его только и знает, что плодиться и размножаться?
– Стало быть, местонахождение сестры Джо вам неизвестно?
– Что до местонахождения, сэр, местонахождение – это отнюдь не то же, что происхождение. Местонахождение есть вещь загадочная, я же, спросите хоть миссис Полтернек или дядюшку Полтернека, имею дело с вещами определенными. Местонахождение мисс Юдифь сомнительно, местонахождение же юного Джо – это задняя комната моего дома. Если вам требуется хорошенькая юная леди…
– Нет-нет. Меня устроит и юный Джо.
– Вот именно, сэр, надеюсь, он вас очень устроит.
– И какова же цена?
– Ах, мистер Флауэрбак, – произнес, потрясая сальным перстом, Полтернек. – После того как мы с вами сошлись на божественном происхождении этого шалуна, могу ли я правильно обозначить Вознаграждение за него? Когда бы он принадлежал только мне, я попросил бы всего лишь крону, и миссис Полтернек с дядюшкой Полтернеком воскликнули бы, что я сам себя обираю, я же, в печали покачав головой, поднял бы цену еще на крону, дабы их удоволить! Я был бы рад попросить эту цену, хоть миссис П. и дядюшка П. и продолжали б твердить, будто я обираю себя. Я рожден человеком щедрым, поделать с этим ничего не могу и просить за это прощения ни у кого не намерен. Но как бы я ни обирал себя, мистер Флауэрбак, обирать Небеса я не вправе! Это было бы дурно, сэр. Я готов лишиться всего, лишь бы порадовать джентльмена подобного вам, ибо мои покупатели – все для меня, но грабить ангелов, мистер Флауэрбак, я не могу. Я лишен необходимых для этого качеств. Один соверен за вечер и еще шесть на следующее утро.
Питер в который уж раз одолел искушение положить конец гнуснейшей жизни в гнуснейшей дыре гнуснейшего квартала гнуснейшего в сем гнусном мире города. Он лишь вложил монету в руку Полтернека.
– Приведите мальчика! – прошептал он. Полтернек хлопнул в ладоши:
– Флинтер!
В мглистом дальнем углу комнаты поднялась с соломенного тюфяка смутная фигура. То был мальчик на вид не старше четырнадцати лет, хотя в городе, где и у шестилетних детей встречаются глаза и походка старцев и не меньший, чем у оных, жизненный опыт, где грязь и голод так задерживают рост двадцатилетних юношей, что те сохраняют внешность хрупких детишек, истинный возраст кого бы то ни было Питер назвать не взялся бы. Да возраст Питера и не заботил, глаза его были прикованы к лицу поднявшегося. Или, вернее, к месту, где полагалось бы по праву находиться лицу. Ибо взгляд Питера приковало отнюдь не лицо. На лице, дамы и господа и досточтимые джентльмены, обычно размещаются глаза, не правда ли? Лицу надлежит обладать ушами и ртом, некой совокупностью органов, позволяющих обонять, и видеть, и слышать, и чувствовать вкус, – только тогда ему и можно присвоить звание лица. То же, что обоняет оно низменный смрад, видит глубочайший позор, слышит самые мерзкие богохульства и вкушает не что иное, как горчайшие горести, – лица, как такового, отнюдь не касается! Лицо предоставляет органы, кои занимают отведенные им места, а уж органы эти пусть себе видят и слышат что им заблагорассудится. А потому, заслуживает ли такового названия личина – о господа мои, глядящие на золотые блюда, дамы, обоняющие тонкие ароматы, друзья, вкушающие упитанного барашка и внимающие сладкой гармонии любящих голосов, – заслуживает ли такового названия лицо, лишенное носа? Какое слово должно придумать для обозначения физиономии, на которой от носа почти ничего уже и не осталось? Физиономии с дыркой посередине – там, где надлежит возвышаться носу, будь он приплюснутым или долгим, распухшим или схожим с картофельным клубнем, римским или отвислым, каким угодно, но носом, простецким либо прекрасным, – физиономии, говорю я, с черным запустением там, где следует помещаться, дабы на них можно было взирать с обожанием либо отвращением, ноздрям и хребтику, – ибо иначе это уже и не лицо, но лик Позора, не образ, но образина Отсутствия. Личина Похоти и Греха, обличие Нужды и Отчаяния, но – молю вас поверить мне – не, и сотню раз не лицо человеческого дитяти.
– Флинтер! Приведи джентльмену юного Джо. И, Флинтер! даже не думай прикоснуться к нему, или, разорвите меня на куски, ты вдруг обнаружишь, что на твоей роже недостает и пары ушей!
Полтернек повернулся к Питеру с покорной улыбкой, как бы желая сказать: «Да благословит Господь мои ягодицы, разве я не расточаю своим малышам больше забот, чем они заслуживают!» Должно быть, он заметил отвращение и ужас, исказившие лицо Питера, поскольку поспешил прошептать в объяснение:
– Сифилис, мистер Флауэрбак. Сифилис – это в нашем деле истинное проклятье. Он был хорошим работником, наш мистер Флинтер, а мне не хватило духу прогнать его после того, как сифилис лишил его нюхалки.
– Могу себе представить, – произнес Питер, – как…
– Помедленнее, бога ради, – сказал Гэри, – у меня сейчас запястье на хрен переломится.
Расхаживавший по комнате Эйдриан остановился.
– Прости, – сказал он. – Немного увлекся. Ну, как тебе пока что?
– Насчет «клубня» я не уверен.
– Пожалуй, ты прав. Завтра проверю.
– Два часа ночи уже, да и ручка у меня того и гляди сдохнет. Надо подрыхнуть.
– Главу закончим?
– Утром.
На заправочной станции при автостоянке, расположенной пообок от автобана Штутгарт-Карлсруэ, зализывали раны Твидовая Куртка и Темно-Синяя Рубашка «Маркс и Спенсер».
– Поверить не могу,– говорил Темно-Синяя Рубашка.– Ни с того ни с сего, и, главное, – за что?
– Возможно, они вообразили себя современными грабителями с большой дороги, – предположил Твидовый.
– По мне, этот толстый в костюме «сафари» на Дика Терпина[44] нисколько не походил.
– Не походил,– согласился Твидовый. Он взглянул на Рубашку, mom отвернулся и пнул ногой пенек.
– И почему я обязательно должен был выбрать самую безлюдную заправку на всем этом поганом автобане?
– Тут я виноват, Эйдриан, мне следовало запарковатъся ближе к главному зданию. Надеюсь, вы не пострадали?
– Ну, по крайней мере паспорт с бумажником остались при мне. Насколько я могу судить, они вообще ничего не взяли.
– Не совсем.
Твидовый горестно указал на заднее сиденье "вулзли":
– Должен с прискорбием сообщить, что они унесли мой кейс.
– О. А что там было?
– Кое-какие бумаги.
– Тю. Ну, выходит, легко отделались. Полицию вызывать будем?
Глава третья
I
Трактор толкал перед собой картофелекопалку. Сбоку от нее шла конвейерная лента, переносившая картофелины на вращающуюся решетку. Работа Эйдриана и Люси состояла в том, чтобы «отсеивать», выбирать подгнившие, зеленые или помятые клубни из тех, что проплывали к Тони, который стоял в конце ленты, укладывая неотбракованную картошку в мешки. Каждые двадцать-тридцать минут они останавливали машину и добавляли очередную дюжину наполненных мешков к груде, подраставшей посреди поля.
Работа была препакостная. Гнилые картофелины не отличались с виду от здоровых, поэтому Люси с Эйдрианом приходилось брать и осматривать каждую из тех, что, подпрыгивая и приплясывая, плыли по ленте. Плохие лопались при малейшем нажатии, извергая струйки вонючей слизи. Во время дождя с колесиков конвейера летели, оседая на лицах и одежде, брызги грязи; в сухую же пору обоих окружало облако оседающей на волосы пыли. Бесконечный лязг, скрип и скрежет вполне, думал Эйдриан, могут сойти для саундтрека одного из адских видений Иеронимуса Босха, видения, в котором обреченные грешники стоят, стеная и зажимая руками уши, пока между ними шныряют черти, с ликованием тыча их вилами в укромные места.
Впрочем, обитатели ада могли хотя бы попытаться завести с соседями разговор, как бы ни трудно было им перекрикивать скрежет адских колес и рев печей. А Люси с Тони – брат и сестра – ни разу еще не сказали Эйдриану ни слова, если не считать «Сдобрым», когда он, озябший, появлялся здесь на рассвете, да «Нупока», когда на закате он, негнущийся, точно статуя, взгромождался на велосипед и уезжал домой, чтобы принять душ и завалиться спать.
Люси просто не отрывала глаз от картошки. Тони просто не отрывал глаз от засыпочной машины. Впрочем, временами Эйдриан замечал, как они поглядывают друг на друга, и неизменно вспоминал при этом шутливое определение котсуолдской девственницы: невзрачная девица не старше двенадцати лет, способная бегать быстрее родного брата.
Особой красотой Люси похвастаться не могла, а судя по взглядам, думал Эйдриан, которыми она обменивается с Тони, и спринтерскими качествами тоже.
Само то обстоятельство, что ему придется работать в пасхальные каникулы, стало для Эйдриана ударом, которого он никак уж не ожидал. Он давно привык к тому, что летом родители велят ему подыскать для себя какую-нибудь работенку; привык обслуживать столики в ресторанчике «Сидр с Рози», сворачивать в рулоны байку на шерстобитной фабрике, жать на педаль станка, складывающего картонные ящики на заводе «Айси-ай» ««Имперский химический трест», основанный в 1926 г., крупнейший в Англии и Западной Европе химический концерн.· в Дарсли, собирать смородину в Ули, кормить диких птиц в Слимбридже.
– Но на Пасху! – уткнувшись носом в мюсли, простонал он в первый день каникул. – Heт, мама, нет!
– Тебе уже пятнадцать, дорогой! Большинство мальчиков твоих лет только радуются любой легкой работе. Отец считает это хорошей идеей.
– Не сомневаюсь, да только работа у меня уже есть. Мое школьное сочинение. – Эйдриан подразумевал статью для подпольного журнала, которую он обещал Хэрни написать.
– Папа не хочет, чтобы ты провел все это время, попусту слоняясь по дому.
– Как мило с его стороны. А сам он проводит весь проклятый год в своей паршивой лаборатории.
– Ну, это нечестно, Эди. Ты и сам знаешь.
– До сих пор мне в пасхальные каникулы работать не приходилось.
Мама налила себе четвертую чашку чая.
– Попробуй, дорогой, ради меня, хорошо? И посмотрим, что из этого выйдет.
– Это означает, что сочинение мне придется писать в пасхальный уик-энд, так? И что я должен буду копаться в клятой картошке в течение самого главного из священных праздников всего распроклятого христианского календаря?
– Конечно, нет, дорогой. Я уверена, работа у мистера Сатклиффа тебе понравится, он такой милый человек. И папа будет очень доволен.
Мать провела по щеке Эйдриана тыльной стороною ладони. Однако тот вовсе не собирался смиренно принимать происходящее. Он встал, подошел к раковине и начал ополаскивать свою чашку.
– Не надо, дорогой. Бетси все сделает.
– Знаешь, это попросту нечестно. У нас вон в следующем триместре матчи по крикету. Мне нужно тренироваться.
– Ну, дорогой, я уверена, работая на ферме, ты приобретешь прекрасную форму.
– По-твоему, это то же самое, что тренировки?
– Не скули, Эди. Такие неприятные звуки. И должна тебе сказать, дорогой, что не понимаю, когда это ты успел проникнуться таким рвением к спорту. Мистер Маунтфорд пишет в отчете, что ты за весь прошлый триместр не посетил ни единого матча по регби и ни одного урока физкультуры.
– Крикет – другое дело, – ответил Эйдриан. – И вообще, вы на большую часть года запихиваете меня в школу, а стоит мне вернуться домой, и вам уже не терпится избавиться от меня. Мне остается только надеяться, что оба вы не удивитесь, если я, когда вы обратитесь в старых вонючек, запру вас в дом для престарелых.
– Дорогой! Не будь таким злым.
– А навещать вас я стану только затем, чтобы задать вам какую-нибудь работенку. Будете у меня гладить рубашки и штопать носки.
– Ади, как ты можешь говорить такие ужасные вещи!
– Вот тогда вы поймете, что чувствует человек, которого отвергает собственная его плоть и кровь! — сказал, вытирая руки, Эйдриан. – И зря ты хихикаешь, женщина, тут нет ничего смешного!
– Нет, дорогой, разумеется, нет, – сказала, прикрывая ладонью рот, мать Эйдриана.
– Ладно, сдаюсь, – отозвался он и набросил на голову посудное полотенце. – Сдаюсь к чертям собачьим.
Сказалось ли тут присутствие в нем силы духа или отсутствие таковой, но, как ни погана была работа, рутинность ее настолько завораживала Эйдриана, что порою часы проходили для него как минуты. Все силы своего ума он направлял на сочинение статьи для журнала. Впрочем, по временам его отвлекали мысли совсем иного рода. Эйдриан вдруг обнаруживал, что разыгрывает про себя драму, в которой сам он исполняет роль Бога, а картофелины – человеческих существ. Вот эту душу он швыряет во тьму, а эту отправляет в житницы вечные.
– Хорошо, добрый и верный клубень[45], отправляйся к вознаграждению твоему.
– Грешник! Распутник. Извергнут будеши, извергнут. Смотри, сим позорным пятном проклинаю тебя.
Эйдриан не был уверен, что лучше – оказаться клубнем подгнившим или здоровым, предпочел бы он уютно устроиться в теплом мешке вместе с прочими благочестивыми или быть отброшенным и снова зарытым в землю. Одно он мог сказать твердо: любая из этих участей предпочтительней участи Бога.
Особенно интересными были картофелины зеленые. Дональд Сатклифф, фермер, как-то за ланчем объяснил Эйдриану, что тут к чему.
– Понимаешь, клубни должны созревать под землей. Если они вылезают из почвы и ловят солнечные лучи, в них начинается фотосинтез, возникает хлорофилл, от которого они и зеленеют. Зеленый картофель – это родственник сладко-горького паслена. Не ядовит, но и добра от него ждать не приходится.
Слова, мгновенно внушившие Эйдриану мысль, что он – зеленая картофелина, а Картрайт – солнце.
«Свет целовал меня и преобразил, – думал он. – Я опасен, и Бог отвергает меня».
В те дни он только этим и занимался. Все, что попадалось ему на глаза, обращалось в символ его существования – от кролика, не способного выбраться из света автомобильных фар, до капель дождя, сбегающих по оконному стеклу. Возможно, это был знак того, что ему предстоит стать философом либо поэтом – человеком, который, стоя на морском берегу, видит перед собою не волны, разбивающиеся о песок, но прилив человеческой воли или ритмы совокупления, слышит не грохот прибоя, но рев разъедающего всё времени и последние стенания человеческой сущности, вспенивающейся, обращаясь в ничто. Не исключено, впрочем, и то, думал Эйдриан, что сам он попросту обращается в вычурного дрочилу.
В последний перед Пасхой рабочий день, в страстной четверг, когда они вчетвером грузили в сгущающихся сумерках мешки с картошкой в трейлер, Эйдриан увидел вдруг стаю больших птиц, черных, точно священники, клюющих гнилую картошку на дальнем краю поля.
– Смотрите, какие большие вороны! – воскликнул он.
– Мальчик, – произнес, поднимая мешок, мистер Сатклифф, – когда ты видишь сбившихся в стаю ворон, будь уверен, это грачи, а не вороны. А когда видишь грача-одиночку, так это долбаная ворона и есть.
– О, – сказал Эйдриан. – Верно. Но предположим, вам на глаза попадется грач заблудившийся или гуляющий сам по себе. Как вы его назовете?
Мистер Сатклифф захохотал.
– Ну, не знаю, как ты, паренек, а я бы назвал его рвачем.
II
С.-Г. Паслен
ШКОЛА СКАНДАЛА, или ВОСПИТАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА
Клуб «Венок маргариток» – клуб для избранных. Избранных, поскольку вступить в него может лишь тот, кто спит в дортуаре для малышни, где нет отдельных альковов. Стать его членом нетрудно. Членство в нем принудительное. Если кто-либо вступать не желает, клуб не идет ему навстречу.
Правила клуба запомнить легко. После того как выключается свет, вы протягиваете правую руку и отыскиваете ею membrum virile[46] вашего соседа. То же самое проделывает с вами мальчик, который лежит слева от вас. По сигналу, данному Президентом клуба (это всегда Староста, долг коего – спать в дортуаре малолеток), все руки начинают совершать возвратно-поступательное движение, и последнего из пришедших к финишу назначают на всю неделю мойщиком уборной.
Это тихий, цивилизованный и дружелюбный клуб, наш «Венок маргариток». Подобные ему имеются в каждом пансионе школы и в каждой школе страны. Знакомый из Амплфорта поведал мне об «Обществе страстных чуланов», другой, из Рагби[47], – о клубе «Молочный коктейль», название коего говорит само за себя. Приятель-уикемист[48] рассказал о развлечении, именуемом в Уинчестере «Игрой в крекер». Игроки встают в кружок и онанируют, стараясь не промазать мимо лежащего на полу печеньица. Закончивший последним печеньице съедает. Вот вам новая приправа для крекеров, до которой не додумалась бы никакая «Маквитиз»[49]. К тому же еще и богатая калием и витаминами.
Время от времени сведения об этих незамысловатых увеселениях просачиваются наружу. Какой-нибудь Блетчли-Титертон проболтается сестре или юный Савонарола напишет домой – и готово. Далее следуют слезы, взаимные обвинения и торопливые изгнания из школы.
Что несколько странно. Взглянем правде в лицо, ребята, наши отцы в большинстве своем учились если не в этой школе, так в других таких же. Что относится и к большинству преподавателей. Клубы «Молочный коктейль» и подобные им так же стары, как ступени Капеллы.
Но это же Англия, где единственное твое преступление состоит в том, что тебя застукали.
«Дорогие коллеги, все мы знаем, что тут творится, но зачем же кричать об этом во все горло? Переворачивать тележку с яблоками, мутить воду – к чему это?»
Как-то сама собой приходит на ум палата общин. Шестьсот с чем-то человек, большая часть которых училась в частных школах. Каждый день они разглагольствуют о нравственной порче, поразившей наш мир, однако подумайте, дорогие мои, просто подумайте о том, что они творили со своими телами и что продолжают творить.
Нас растят для того, чтобы мы стали властью. Пройдет двадцать лет, и мы увидим на экранах телевизоров членов клуба «Венок маргариток», рассуждающих о ценах на нефть, сообщающих точку зрения церкви на ИРА, ведущих « Флаг отплытия »[50], закрывающих фабрики, зачитывающих с судейских мест суровые приговоры.
Или не увидим?
Мир меняется. Мы отращиваем волосы подлиннее, мы принимаем наркотики. Многие ли из тех, кто читает это, не курили марихуану прямо в школе? Мы не очень интересуемся властью, мы хотим что-то выправить в мире.
А вот этого никто уже терпеть не желает. Нет, мои дорогие старые однокашники, это преступление непростительное.
Членство в клубе «Венок маргариток» может приводить к слезам, взаимным обвинениям и торопливым изгнаниям – и даже к еще более торопливым попыткам замять поднявшийся шум и отделаться шуточками. Но длинные волосы, курение травки и подлинный бунт – они провоцируют гнев, ненависть и безумие. Когда молодые люди тянут друг друга за концы в общих спальнях, они исполняют чарующую старую традицию, освященный временем ритуал; единственная причина, по которой их затем изгоняют из школы, состоит в том, что традицию эту трудно растолковать слезливым матерям и злобным газетчикам. Когда же мальчики вдруг заявляют, что станут скорее барабанщиками, чем барристерами; садовниками, чем бизнесменами; поэтами, чем солдатами, что они ни в грош не ставят экзамены, власть и семью, что когда они вырастут, то постараются переделать мир под себя, а не себя под мир, вот тогда возникает Подлинная Озабоченность.
Кто-то сказал, что при капитализме происходит эксплуатация человека человеком, а при коммунизме – совсем наоборот. Полагаю, большинство из нас с этим согласно. Мне не известен ни единый школьник-коммунист, зато известны сотни школьников-революционеров.
В 60-е годы идеал сводился к тому, чтобы взять свое силой. Не знаю, видели ли вы фильм « Если…». Сомневаюсь в этом, наш киноклуб каждый год пытается показать его, а директор школы каждый год показ запрещает. Фильм заканчивается тем, что группа школьников обращается в партизан, совершающих покушения на родителей и учителей. Говорят, что, хоть действие фильма и разворачивается в школе, он представляет собой метафору реальной жизни. На этот счет я ничего сказать не могу, однако для меня школа – это и есть реальная жизнь. И вероятно, останется таковой еще несколько лет. Я, разумеется, не собираюсь убивать кого-либо из учителей (ну разве что двух-трех, самое большее), но мне очень и очень хотелось бы понять, почему им дана власть над нами. Спросить, откуда она взялась, как они ее получили. Если нам говорят, что основу этой власти составляют всего только возраст и сила, то мы понимаем, в какого рода мире живем и что с ним следует делать. Нас вечно просят проявить уважение. Что ж, проявлять уважение к лучшим из них мы можем, но мы находим затруднительным испытывать таковое. Наше поколение, поколение 70-х, призывает к социальной революции, а не к…
– Эйдриан!
– Вот же херня!
– Мы уже собрались, дорогой!
– Собрались? Куда? – крикнул Эйдриан.
– В церковь, конечно.
– Ты же сказала, что я могу не ходить!
– Что?
Эйдриан вышел из своей комнаты и глянул через перила лестницы вниз, в прихожую. Отец и мать, приодетые по-воскресному, стояли у двери.
– Я пишу школьное сочинение. Ты говорила, что в церковь я могу не ходить.
Отец фыркнул:
– Не говори глупостей! Разумеется, ты должен пойти.
– Но я же отработал…
– Повяжи галстук и спускайся, сию же минуту!
III
– Ты задроченный маньяк, – сказал Том.
– Это ты задроченный маньяк, – ответил Эйдриан.
– Мы все задроченные маньяки, – сообщил Хэрни.
Все четверо сидели в «кабинете» Хэрни и Сэмпсона, перелистывая «Херню!».
Чемодан, на котором они устроились, казался им пороховой бочкой. В нем лежали семьсот готовых для распространения экземпляров журнала.
– Бросьте, ребята, – сказал в конце предыдущего триместра Хэрни, когда Эйдриан предложил это название. – «ПИХ» куда лучше. «Подпольное издание Хэрни». Господи, да «Херня» – это же моя кличка. Все сразу поймут, что я имею к нему отношение.
– В том-то и фокус, балда моя сладкая, – ответил Эйдриан. – Никто не поверит, что мозговитый Хэрни оказался таким дураком, чтобы назвать своим именем подрывной подпольный журнал.
И журнал получил название «Херня!». Иллюстраций в нем не было, поскольку рисовать умели лишь Том и Сэмпсон, а их стили были слишком легко узнаваемы.
То, что они сейчас разглядывали, представляло собой пятнадцать машинописных страниц, перенесенных копировальным аппаратом на зеленоватую бумагу. Ни надписей от руки, ни рисунков – ничего, что позволило бы распознать авторов. Журнал мог изготовить любой ученик или ученики любого пансиона школы. Хэрни без всяких хлопот, соблюдая полную секретность, размножил дома восковки.
В следующий за Пасхой вторник Эйдриан, изрядно выправив и переписав статью, отправил ее в Хайгейт[51], на домашний адрес Хэрни; теперь, перечитывая написанное, он находил его довольно пресным и вялым в сравнении с сочиненным Хэрни либретто рок-оперы из школьной жизни и представленным Томом прямо-таки превосходным анализом героиновой контркультуры в «Голом завтраке». Аллегория же Сэмпсона, повествующая о жизни рыжих и серых белок, бьла и вовсе неподражаема.
– Ну ладно, – сказал Том, – теперь перед нами стоит проблемка распространения.
– Скорее проблемина, чем проблемка, – заметил Хэрни.
– И даже проблемондия, – сказал Сэмпсон.
– Я пошел бы так далеко, что назвал бы ее проблемистерией.
– Что и говорить, – сказал Том, – тут нам придется попотеть.
– Вот уж не думаю, – откликнулся Эйдриан, – мы же все получали альковные наряды, верно? И хорошо знаем, как в какой пансион проникнуть.
– Вообще-то я до сих пор ни одного не получил, – сказал Сэмпсон.
– Зато у меня их было многое множество, – сказал Эйдриан. – Думаю даже, что мне принадлежит рекорд нашего пансиона.
Поддержание дисциплины всегда было в частных школах задачей не из простых; сечение нарушителей, поджаривание малышни у открытого огня, засовывание в их задние проходы не самых для этого подходящих предметов, подвешивание за лодыжки – все эти жестокие и необычные формы наказаний уже отмерли ко времени появления Эйдриана в школе. Директору еще случалось иногда поработать тростью, учителя могли предоставлять ученикам полную свободу действий, а могли и лишать каких-либо привилегий или ограничивать оные, старосты наказывали учеников альковными нарядами, однако изобретательное насилие и изощренные пытки отошли в прошлое. Уже три года, как никого не подвешивали в уборной вниз головой и никому не защемляли концов ящиком стола. При такого рода мягкости и либерализме, распространившихся в первейших из наших образовательных заведений, нечего, по мнению многих, было и дивиться тому, что в стране все идет наперекосяк.
Когда именно был изобретен альковный наряд – насильственная мера характера скорее бюрократического, чем физического, – никто бы сказать не взялся. Единичный альковный наряд представлял собою клочок бумаги, вручаемый старостой нарушителю. На листке стояло имя еще одного старосты, всегда из другого пансиона. Двойной альковный наряд содержал имена двух старост из двух разных пансионов. Эйдриан был единственным на памяти нынешних обитателей школы, кто получил как-то раз шестикратный альковный наряд.
Получателю надлежало подняться пораньше, натянуть спортивный костюм, добежать до пансиона, значащегося в списке первым, проникнуть в альков, разбудить старосту и попросить, чтобы тот расписался напротив своего имени. Затем нужно было отправиться к следующему в списке лицу, обитавшему, как правило, на другом конце школьного городка. Собрав же все подписи, следовало вернуться в свой пансион, переодеться в форму и поспеть к завтраку, начинавшемуся без десяти восемь. Дабы наказуемый не жульничал, обходя старост в наиболее удобном для него географическом порядке или поднимаясь раньше семи – официального стартового времени, старосты, которые значились в списке, должны были проставлять рядом со своими подписями время, в которое их разбудили.
Эйдриан питал к альковным нарядам отвращение, хотя психолог мог бы попытаться разубедить его, указав на то, какую изобретательность ему приходилось проявлять, чтобы собрать нужные подписи. Эйдриан считал эти наряды нелогичной формой взыскания, столь же неприятной для старост, вырываемых из объятий сна, сколь и для самих наказуемых.
Система эта предоставляла возможности для самых разных злоупотреблений. Старосты могли, например, сводить счеты с не угодившими им коллегами, посылая к ним наказанных каждый день. Такого рода войны старост, ведомые по принципу «зуб за зуб», продолжались порою целыми триместрами. У старосты Эйдрианова пансиона, Сарджента, завязалась однажды распря со старостой из пансиона Дашвуда, носившим имя Парди. В итоге Эйдриан каждый божий день той страшной недели получал от Сарджента единичные альковные наряды по поводам до смешного пустячным: за то, что, готовясь к урокам, свистел у себя в кабинете; за то, что, наблюдая за матчем, держал руки в карманах; за то, что не обнажил голову перед отставным учителем, с которым столкнулся на Хай-стрит и которого знать не знал и вообще увидел впервые.
И в каждом наряде, выдававшемся в ту неделю Сарджентом, значилось имя Парди. На пятый день Эйдриан, с извинениями проскользнувший в альков Парди, обнаружил, что там пусто.
– Птичка упорхнула, давняя любовь моя, – объяснил он Сардженту, вернувшись с неподписанным листком. – Но я утащил из тумбочки Парди пакет с умывальными принадлежностями – в доказательство того, что был у него.
Под вечер того же дня Сарджент и Парди подрались на Верхней спортивной площадке, после чего Сарджент оставил Эйдриана в покое.
Но, разумеется, старосты могли также и оказывать друг другу услуги.
– Слушай, Ханкок, у тебя в регбийной команде есть один такой вбрасывающий, ничего из себя, как же его зовут-то?
– Йелленд, что ли?
– Во, точно. Сказочный малый. Ты бы… это… прислал его ко мне как-нибудь утром, идет? С нарядом.
– Ладно. Если ты пришлешь мне Финлея.
– Договорились.
Еще новичком Эйдриан, получив первый свой альковный наряд, с испугом обнаружил, что староста, подпись которого ему требуется, спит голышом, накрывшись одной только простыней, и разбудить его никакими силами невозможно.
– Извини меня, Холлис, Холлис! – отчаянно попискивал ему в ухо Эйдриан.
Но Холлис лишь замычал во сне, обхватил Эйдриана рукой и затянул в постель.
Единственное, что доставляло выполнявшему альковный наряд Эйдриану подлинное удовольствие, это проникновение со взломом. Официально все пансионы оставались запертыми до семи утра, что, как предполагалось, обращало в бессмыслицу ранний подъем и неторопливую прогулку к месту назначения. Однако всегда находилась приставная лестница, какое-нибудь окно в раздевалке или кухне, которое можно было взломать, запор, легко поддававшийся нажатию гибкой слюдяной пластинки. А уж попав вовнутрь, оставалось только прокрасться в дортуар, войти на цыпочках в альков старосты, подвести его будильник и разбудить бедолагу. Это позволяло выходить на дело в половине шестого, в шесть, избавляя себя от беготни и спешки, которые требовались, чтобы уложиться в сорок минут.
– Управимся, – сказал Эйдриан Хэрни. – Не труди на этот счет свою хорошенькую головку. Думаю, мне известны ходы во все пансионы.
Два дня спустя школа проснулась под знаком «Херни!».
С трех часов утра и до половины шестого Эйдриан, а вместе с ним Том, Хэрни и Сэмпсон, руководствуясь нарисованными Эйдрианом картами и данными им инструкциями, проникали в пансионы, оставляя экземпляры журнала в кабинетах, комнатах отдыха, библиотеках и – целыми стопками – у подножия лестниц. Никто их не увидел, и они никого не увидели. К завтраку все четверо спустились, изображая такое же удивление и волнение, какое журнал вызвал во всех прочих.
В самой же школе, еще перед утренней молитвой, они присоединились к стайкам учеников, толокшихся в колоннаде перед досками объявлений, обменивавшихся мнениями о содержании журнала и строивших догадки насчет его авторов.
Эйдриан напрасно тревожился, что изысканность сочиненного другими затмит его статью. Присущий ей разнузданный популизм оказался школе куда интереснее, чем темная педантичность Хэрни и Сэмпсона или агрессивность безудержного слога Тома. Самые возбужденные разговоры этого дня вертелись вокруг личности С.-Г. Паслена. Где бы ни оказывался Эйдриан, он всюду слышал цитаты из своей статьи.
– Эй, Марчант, может, сыграем по-быстрому в крекер?
– Они могут укоротить ваши волосы, дети мои, но не могут укротить дух. Мы побеждаем, и они это знают.
– Школа – не прихожая реальной жизни, она и есть реальная жизнь.
– Пассивное сопротивление!
– Давайте составим свою программу. Провалим их экзамены, но выдержим собственные.
Ничего подобного школа еще не видела. На утренней одиннадцатичасовой перемене в буфете только о журнале и говорили.
– Ну давай, Хили, признавайся, – сказал Эйдриану уплетавший сливки Хейдон-Бейли, – это же твоих рук дело, правда? Все так говорят.
– Странно, а меня уверяли, что твоих, – ответил Эйдриан.
Невозможность объявить во весь голос о своей причастности к происходящему наполняла Эйдриана мучительным разочарованием. Хэрни, Сэмпсон и Том радостно довольствовались безвестностью, Эйдриану же требовались овации и признание. Даже насмешки и злобное шипение и те сошли бы. Он гадал, прочел ли Картрайт его статью? Что он о ней думает? Что думает о ее сочинителе?
Эйдриан внимательно приглядывался к реакции людей, которых обвиняли в том, что они-то и есть авторы журнала. Он всегда старался усовершенствоваться в тонком искусстве вранья, и наблюдение за теми, кто говорит, когда на них нажимают, чистую правду, было в этом отношении чрезвычайно полезным.
Как обнаружил Эйдриан, говорили они примерно следующее:
– Ну да, в общем-то, это я.
– Иди ты, Эйтчесон! Все же знают, это твоя работа.
– О господи! Как ты об этом пронюхал? Думаешь, директор тоже знает?
Эйдриан запоминал эти реплики и старался воспроизводить их сколь возможно точнее.
В тот же день, после ланча, Тикфорд, директор Эйдрианова пансиона, воздвигся посреди столовой, как и прочие одиннадцать директоров в своих одиннадцати пансионах.
– Перед спортивными занятиями старостам надлежит забрать из кабинетов все экземпляры журнала и уничтожить их. Всякий, у кого после трех часов дня будет обнаружен подобный экземпляр, понесет суровое наказание.
Таким злющим Эйдриан Тикфорда еще не видел. Уж не догадался ли он, что «Херня!» происходит именно из его пансиона?
Эйдриан и Том с радостью отдали свои экземпляры.
– Получите, гауптман Беннетт-Джонс, – сказал Эйдриан. – У нас имеется также издание «Процесса», сочиненного печально известным евреем по имени Кафка. Полагаю, Берлин одобрит вас, если вы бросите в костер и эту книжонку. Да, и вместе с ней – сочинения декадентствующей лесбиянки и большевички Джейн Остин.
– Поосторожнее, Хили. Ты в списке. Если ты хоть как-то связан с этим дерьмом, считай, что у тебя неприятности.
– Спасибо, Сарджент. Не буду больше отнимать твое драгоценное время. Уверен, тебе еще предстоит посетить с подобной же целью множество наших соседей.
И все же, сколько бы шуму ни наделал журнал, Эйдриана почему-то томило разочарование. Ничего его статья не изменила, ни капельки. Он, собственно, и не ожидал, что в классах разразятся открытые боевые действия, и все-таки грустно было сознавать, что если его, Хэрни и прочих завтра изобличат и изгонят, школа посудачит о них немного, а после забудет навсегда. Мальчики трусливы и консервативны. Наверное, поэтому, думал он, система и работает.
Чувствовал Эйдриан и то, что, попадись ему эта статья в дальнейшей жизни, лет в двадцать, он только поежится, смущенный ее претенциозностью. Но почему его будущее «я» должно насмехаться над ним теперешним? Ужасно сознавать, что время заставит тебя предать все, во что ты сейчас веришь.
«То, каков я сейчас, правильно, – говорил он себе. – Я никогда не буду видеть все так ясно, никогда не буду понимать все так полно, как в эту минуту».
Мир не изменится, если люди по-прежнему будут позволять ему засасывать себя.
Он попытался пересказать свои чувства Тому, но тот пребывал в настроении неразговорчивом.
– Сдается мне, изменить мир можно только одним способом, – сказал Том.
– И каким же? – спросил Эйдриан.
– Измени себя.
– Ой, ну это уже херня!
– И «Херня!» говорит чистую правду.
Эйдриан сходил в библиотеку, посмотрел литературу по симптомам, которые он в себе наблюдал. Сирил Коннолли, Робин Моэм, Т. К Уэрсли, Роберт Грейвз, Саймон Рейвн[52]: у каждого из них имелся свой Картрайт. А романы! Их были десятки. «Бог нас отверг», «Отсвет юности», «Четвертое июня», «Сандел», «Особенная дружба», «Холм»…
Он всего лишь один из множества чопорных, ожесточенных и чрезмерно чувствительных представителей среднего класса, норовящих выдать свою немощную декадентскую похоть за нечто одухотворенное и сократическое.
Да почему бы и нет? Если это означает, что ему предстоит закончить свои дни на средиземноморском острове, сочиняя лирическую прозу для издательства «Фабер и Фабер» и критические статьи для «Нью стейтсмен», меняя одного мальчика-слугу и «секретаря» на другого, попивая «Ферне Бранка» и каждые полгода откупаясь от начальника полиции, – значит, так тому и быть. Все лучше, чем под дождем тащиться в контору.
Окончательно разозлясь, Эйдриан снял с полки толстую Библию, открыл ее наугад и красной шариковой ручкой написал на полях: «Ирония». А на форзаце нацарапал несколько анаграмм собственного имени. Ад Иран, радиан, дан аир, на дари.
И решил пойти повидаться с «Глэдис». Уж она-то его поймет.
Дорогой к нему прицепился выскочивший из-за могильного памятника Ранделл.
– Ага! Вот и С.-Г. Паслен!
– Ну слово в слово, Давалка, я как раз это и собирался сказать. Только тебе могут быть известны мерзости вроде игры в крекер.
– Мало ли кто чего знает.
Эйдриан сделал вид, что лезет в карман за записной книжкой.
– Это стоит записать – «мало ли кто чего знает». Может оказаться полезным, если мне когда-нибудь придется участвовать в конкурсе на произнесение самой бессмысленной в нашем языке фразы.
– Ну извини.
– Не дождешься.
Ранделл поманил его согнутым пальцем.
– Новую штуку придумал, – сказал он. – Иди сюда.
Эйдриан с опаской приблизился.
– И что же это за гадость?
– Нет, я серьезно. Подойди поближе. Ранделл указал на свой брючный карман.
– Засунь туда руку.
– Знаешь, Давалка, даже для тебя… это уж чересчур…
Ранделл притопнул ногой:
– Да серьезно же! Блестящая идея. Сунь руку, пощупай.
Эйдриан поколебался.
– Ну, давай!
Эйдриан опустил руку в карман Ранделла. Тот захихикал.
– Понял? Я прорезал карманы. А трусов не ношу.
– Давалка, ты величайшая из…
– Господи, да продолжай уж, раз начал.
Эйдриан дошел до «Глэдис» и плюхнулся на нее. Оставшийся внизу Ранделл послал ему воздушный поцелуй и ускакал куда-то – восстанавливать силы перед тем, как проделать тот же фокус с кем-то еще.
«Ну вот, ну чем меня не устраивает Давалка? – спросил себя Эйдриан, вытирая носовым платком пальцы. – Он сексуальный. Занятный. С ним можно вытворять штуки, о которых, если говорить о Картрайте, я и помыслить-то не могу. А, черт, опять кого-то несет».
– Друг или враг? Приковылял Свинка Троттер.
– Друг! – отдышавшись, ответил он.
– Ба! Да вы совсем изнурены, мой лорд. Приблизьтесь, присядьте рядом со мной.
Пока Троттер усаживался, Эйдриан обмахивался листком щавеля.
– Я всегда почитал котильон чрезмерно утомительным для летней поры. Лицам высокопоставленным должно его избегать. Танцуя котильон, я сознаю, что выгляжу непревзойденно заурядным. Менуэт, полагаю я, вот единственный танец, приличествующий изысканному джентльмену, играющему в свете сколько-нибудь видную роль. Тут вы согласитесь со мной, мой лорд, не правда ли? По-моему, Хорри Уолпол[53] заметил однажды: «В этой жизни необходимо испробовать все, кроме кровосмешения и сельских танцев". Превосходное правило, как я сказал моей матери, укладываясь вчера вечером с нею в постель. Возможно, вы несколько позже окажете мне честь, составив компанию за ломберным столом? Предстоит партия в „бассет", и я намерен облегчить лорда Дарроу на пять сотен гиней.
– Хили, – сказал Троттер. – Я не говорю, что это ты, не говорю, что не ты, мне, в общем, все равно. Однако С.-Г. Паслен…
– Паслен сладко-горький, – сказал Эйдриан. – Solarium dulcamara, распространенное придорожное растение.
Искали там, искали тут,
Учителя сбивались с ног,
Но ловок он, прожженный плут,
Сей сладко-горестный цветок.
Стишки так себе, зато моего собственного сочинения.
– Ты ведь, наверное, читал его статью? – спросил Свинка Троттер.
– Может, и заглянул в нее пару раз в часы досуга, – ответил Эйдриан. – А почему ты спрашиваешь?
– Ну…
У Троттера явственно перехватило горло. Эйдриан в испуге взглянул на него. В поросячьих глазах мальчика стояли слезы.
Ах, дьявол! Чего Эйдриан не способен был переносить, так это чужих слез. Может, обнять его за плечи? Или притвориться, что ничего не заметил? Эйдриан решил, что лучше обойтись с Троттером по-дружески, ласково.
– Эй, эй, эй! Что такое?
– Прости, Хили. Правда, прости, н-но…
– Мне ты можешь сказать. Что случилось? Троттер с несчастным видом покачал головой и шмыгнул.
– На-ка, – сказал Эйдриан, – вот тебе носовой платок. Хотя… нет, он не очень чистый. Зато у меня есть сигарета. Отлично прочищает нос.
– Нет, Хили, спасибо.
– Ну тогда я сам покурю.
Эйдриан нервно вглядывался в Троттера. Это нечестно, вот так давать выход своим чувствам. Да и какие такие чувства могут иметься у болвана вроде Свинки? Тот уже вытащил собственный носовой платок и с жутким хлюпаньем высморкался. Эйдриан закурил и спросил, постаравшись сообщить своему тону небрежность:
– Ну, что тебя так расстроило, Трот? Что-нибудь в статье?
– Да нет. Просто там есть одно место, где говорится…
Троттер извлек из кармана экземпляр «Херни!», уже открытый на второй странице Эйдриановой статьи.
Эйдриан удивленно воззрился на него:
– Я бы на твоем месте постарался, чтобы меня с этим не увидели.
– А, ладно, я его скоро выброшу. Статью я все равно уже переписал.
Троттер пристукнул пальцем по одному из абзацев.
– Вот здесь, – сказал он, – прочитай.
– «Они называют это детским увлечением, – начал читать Эйдриан, – что ж, полагаю, им никогда не узнать, какие чувства наполняют юное сердце. Слова Донни Осмонда, философа и острослова, попадают, как обычно, в самую точку. Как они могут наказывать нас и унижать, когда мы способны испытывать чувства достаточно сильные, чтобы взорвать весь мир? Либо они знают, через что мы проходим, влюбляясь, и тогда их бессердечие, нежелание нас предостеречь, помочь нам пройти через это не заслуживают прощения, – либо они никогда не чувствовали того, что чувствуем мы, и в этом случае мы имеем полное право назвать их мертвецами. У вас все сжимается в животе? Любовь разъедает вас изнутри, верно? Но что она делает с вашим разумом? Она швыряет за борт мешки с песком, чтобы тот воспарил, как воздушный шар. Вы вдруг возноситесь над обыденностью…» Эйдриан взглянул на Свинку Троттера, который раскачивался взад-вперед, с силой вцепившись в носовой платок, как если б тот был поручнем в кабинке на американских горках.
– По-моему, – сказал Эйдриан, – это искаженная цитата из «Потерянного уик-энда». Рэй Милланд говорит там о спиртном. Так. Значит, ты… э-э… ты, выходит, влюблен?
Троттер кивнул.
– М-м… в кого-то… кого я знаю? Если не хочешь, не говори.
Эйдриан разозлился, услышав, как хрипло звучит его голос.
Троттер снова кивнул.
– Это… должно быть, не просто.
– Я не против того, чтобы сказать тебе, – вымолвил Троттер.
Если это Картрайт, убью, подумал Эйдриан. Убью жирного ублюдка.
– Так кто же он? – спросил Эйдриан со всей, на какую был способен, небрежностью.
Троттер взглянул ему в лицо.
– Ты, конечно, – сказал он и залился слезами.
Оба неторопливо возвращались в пансион. Эйдриану до смерти хотелось удрать, оставив Свинку Троттера утопать в соленой ванне его дурацких печалей, но он не мог.
Он не понимал, как ему реагировать. Не знал, как принято вести себя в подобных случаях. В определенном смысле он, наверное, в долгу перед Троттером. Предмету любви надлежит чувствовать себя польщенным, удостоенным чести, облеченным некой ответственностью. Эйдриан же чувствовал себя оскорбленным, униженным и полным отвращения. Более того, обманутым.
Троттер?
Конечно, и свиньи могут летать. Вот эта, во всяком случае.
Нет, это не то же самое, твердил он себе. Не то, что у меня с Картрайтом. Не может такого быть. Господи, а если бы я признался Картрайту в любви и тот почувствовал себя хотя бы на десятую долю таким же разозленным, как я сейчас?..
– Ничего, все в порядке, – говорил Свинка Троттер, – я знаю, ты ко мне того же не чувствуешь.
«Ты ко мне того же не чувствуешь»? Иисусе!
– Ну, – сказал Эйдриан, – дело в том, что… понимаешь, это же пройдет, правда?
Как он мог такое сказать? Как мог он сказать такое?
– От этого мне не лучше, – вздохнул Троттер.
– Тоже верно, – сказал Эйдриан.
– Ты не беспокойся. Я тебя донимать не стану. Не стану больше таскаться за тобой и Томом. Я уверен, все будет в порядке.
Ну вот, пожалуйста. Если он так уверен, что «все будет в порядке», так какая же это любовь? Эйдриан знал, между ним и Картрайтом никогда и ничто «в порядке» не будет.
Это не Любовный Напиток, а так – «пепси».
Они уже приближались к пансиону. Троттер вытер глаза рукавом блейзера.
– Мне очень жаль, – сказал Эйдриан, – ну, то есть…
– Все нормально, Хили, – отозвался Троттер. – Знаешь, я только хотел еще сказать тебе, что читал «Очный цвет».
– О чем ты?
– Ну, в книге же все пытаются выяснить, кто такой «Очный цвет», и Перси Блэкини сочиняет стишок – тот, который ты недавно прочитал: «Искали там, искали тут, французы все сбивались с ног…»
– И?
Куда это его понесло?
– Но дело в том, – продолжал Троттер, – что как раз Перси Блэкини и был «Очным цветом», верно? Тот, кто сочинил стишок. Вот и все.
IV
На следующее утро Эйдриан пришел в Капеллу пораньше, что позволило ему усесться за Картрайтом и любоваться красотою его затылка, линией плеч и совершенством ягодиц, напрягавшихся, когда Картрайт склонялся в молитве.
Странная это вещь – красота, странно, как она меняет все в человеке и вокруг него. Блейзер Картрайта далеко превосходил своей красой все прочие блейзеры в Капелле, хоть и был куплен там же, где остальные, в «Горринджиз». Уши его, проглядывавшие из переплетения мягких золотистых волос, состояли, как и любые уши, из кожи, капилляров и мясистых тканей, но никакие иные уши не воспламеняли кровь Эйдриана, не наполняли его желудок расплавленным свинцом.
Гимном, выбранным на сегодня, был «Златой Иерусалим». Эйдриан, как обычно, подставлял в него собственные слова:
– О Картрайт дивный, златоглавый, текущий молоком и медом. В сияньи твоей вечной славы как сердце сладкой болью сводит! Я знаю, я прекрасно знаю, как песня радости поется. О, сколь же счастлив будет тот, на коего твой свет прольется…
Сидевший рядом с ним Том услышал, что он поет, и пихнул Эйдриана локтем. Эйдриан послушно вернулся к тексту, однако на заключительном стихе вновь перешел на собственную версию:
– О Картрайт, о пресветлый мой, твое лицо увижу ль я? О Картрайт, о пресветлый мой, сойдет ли слава к нам твоя? Духовную утолишь ты жажду, как освященная вода. Врагом и другом став однажды, ты им остался навсегда.
Шестьсот сборников гимнов вернулись на полки, шестьсот юных тел в мантиях зашелестели, рассаживаясь по местам. В восточном конце Капеллы простучали по каменному полу каблуки директора, выступившего, поддернув плечи мантии, вперед, чтобы обнародовать Уведомления.
– Было замечено, что некоторые мальчики срезают дорогу от Верхних площадок к Олпертон-роуд. Душевно прошу вас помнить, что этот путь проходит через поле Брэндистона, являющееся частным владением и лежащее за пределами школы. Воскресную службу проведет Рекс Андерсон, викарный епископ Кампалы. Медаль Бейтмана за греческую прозу присуждена У. И. С. Дж Хуперу из пансиона Розенгарда. Это все.
Директор развернулся, чтобы уйти, но спохватился и развернулся обратно.
– Да, еще одно. Меня известили, что по школе распространился не вполне обычный детский журнал определенного толка. До тех пор, пока не объявятся сочинители этой чепухи, всякого рода отлучки и клубные мероприятия отменяются, а мальчикам надлежит проводить свободное время в стенах своих пансионов. Вот теперь действительно все.
– Черт знает что! – сказал Эйдриан, когда они вышли из Капеллы под свет солнца. – И как трогательно, ну просто на редкость. «Детский журнал определенного толка»! Как будто он не перечитал этот журнал сто раз и не трясся, читая, от злости!
– Он просто пытается сделать вид, что ничего тут такого уж особенного нет, – сказал Том.
– Неужели он действительно думает, что мы на это купимся? Он перепугался, перепугался до печенок.
К ним подошел Хейдон-Бейли.
– Запер нас до конца триместра! Сволочь!
– Это всего лишь неуклюжая попытка настроить школу против авторов журнала, чтобы она проделала за него всю детективную работу, – сказал Хэрни. – Не выйдет. Кто бы этот журнал ни состряпал, он слишком умен.
Занять вечер этого дня Эйдриану опять было нечем. То был день Строевой Подготовки, стало быть, крикет отменялся, а навестить Глэдис Уинкворт он не решался, опасаясь снова столкнуться с Троттером. Официально ему следовало бы заглянуть к своей подопечной старушке, выполнить какие-нибудь ее поручения, но она еще в прошлом триместре померла от переохлаждения, а замены Эйдриану пока не предоставили. Он решил было отправиться в школьную библиотеку звукозаписей, выбрать какую-нибудь музыку и попрактиковаться в дирижерстве – любимое его легальное времяпрепровождение, – но тут вдруг вспомнил, что Биффен, преподаватель французского, пригласил его к чаю.
Биффен жил на краю городка, в довольно импозантном доме, стоящем посреди собственного земельного участка.
– Здравствуйте, сэр, – сказал Эйдриан. – Сегодня пятница, вот я и подумал…
– Хили! Как замечательно. Входите, входите.
– Я принес немного лимонной помадки, сэр.
В гостиной уже сидели шесть мальчиков, беседуя с супругой Биффена, леди Элен. Биффен женился на ней, еще учась в Кембридже, а после, когда получил в своей старой школе место младшего преподавателя, привез ее сюда. С той поры они здесь и жили, вызывая у всей школы немалую жалость: дочь графа, связавшая свою жизнь с не подающим особых надежд и не сделавшим особой карьеры педагогом.
– А я вас знаю! – пророкотала с софы леди Элен. – Вы Хили из пансиона Тикфорда. Вы еще играли в школьном театре Моску[54].
– Хили учится у меня в младшем шестом французском, – сказал Биффен.
– И всячески тебе досаждает, Хэмфри, дорогой. Не сомневаюсь.
– Э-э, я тут принес немного лимонной помадки.
– Как мило. Ну, с кем из присутствующих вы знакомы?
Эйдриан оглядел гостиную.
– Хьюго вы наверняка знаете. Он из вашего пансиона. Идите сядьте с ним рядом и не позволяйте ему портить мою собаку.
До этой минуты Эйдриан не замечал Картрайта, который сидел у окна, скармливая кусочки кекса спаниелю.
– Привет, – сказал Эйдриан, усаживаясь рядом с ним.
– Привет, – ответил Картрайт.
– Ну как, экзамен сдал?
– Извини?
– Пианино, за третий класс. Помнишь? В прошлом триместре.
– А, этот. Да, спасибо.
– Отлично.
Еще один бессмертный диалог, вышедший из-под пера Ноэля Кауарда[55] семидесятых.
– Так, – сказал Эйдриан, – а ты бываешь здесь… э-э… ты тут часто бываешь?
– Почти каждую пятницу, – ответил Картрайт. – А вот тебя здесь ни разу не видел.
– Нет, я… меня раньше не приглашали.
– Понятно.
– Так что… э-э… что тут вообще-то происходит?
– Да, знаешь, мы просто приходим в гости, пьем чай.
Так оно и оказалось. Биффен затеял игру в названия книг – от каждого участника требовалось признаваться, что ту или иную книгу он никогда не читал. Биффен и леди Элен произносили названия классических романов и пьес, и если ты их не читал, то должен был поднять руку. «Гордость и предубеждение», «Дэвид Копперфильд», «Скотный двор», «Мадам Бовари», «1984», «Счастливчик Джим», «Сыновья и любовники», «Отелло», «Оливер Твист», «Упадок и разрушение», «Говардс-Энд», «Гамлет», «Анна Каренина», «Тесс из рода д'Эрбервиллей» – список непрочитанных книг, который им удалось составить, вызвал всеобщие смешки. Все сошлись на том, что под конец триместра список должен будет состоять из книг менее известных. Единственными двумя книгами, которые прочли все присутствующие, оказались «Повелитель мух» и «Поправка-22», что, как заметил Биффен, способно сказать многое о качестве преподавания литературы в приготовительной школе. Конечно, все это было очевидной и, на взгляд Эйдриана, довольно глупой попыткой заставить всех побольше читать, тем не менее результаты она давала. Несмотря на претенциозность происходившего, Эйдриан, пожалуй, получил удовольствие, особенно воодушевило его то обстоятельство, что в русской литературе, всегда казавшейся ему самой внушительной и труднопостижимой, он оказался начитанным более всех прочих.
– Знаешь, – сказал он Картрайту, когда они возвращались в пансион Тикфорда, – побывав в таком доме, недолго и растеряться. Совсем неплохая идея – иметь прибежище вроде этого, место, куда можно захаживать, верно?
– На следующий год, когда я буду в шестом классе, он собирается стать моим тютором, – сказал Картрайт. – Я думаю поступить в Кембридж, а он, похоже, лучший, кто может натаскать тебя к оксбриджским вступительным экзаменам.
– Правда? И я собираюсь в Кембридж! – сказал Эйдриан. – Ты какой колледж выбрал?
– Тринити, наверное.
– Господи, я тоже! В нем мой отец учился! На самом-то деле отец Эйдриана учился в Оксфорде.
– Правда, Биффо считает, что мне следует поступить в Святого Матфея. У него там друг еще с военных времен, профессор Трефузис, говорят, он очень хорош. Ладно, давай пошевеливаться. Нам же запрещено выходить из пансиона. А уже почти пять.
– А, дьявол, – откликнулся Эйдриан, и оба припустили бегом. – Слушай, а ты журнал читал? – спросил Эйдриан, пока они скакали вверх по холму в сторону пансиона.
– Да, – ответил Картрайт. На чем беседа и закончилась.
– Мы с ним поговорили почти по-настоящему, Том!
– И отлично, – сказал Том. – Тут вот какое дело…
– Все решено. В мой второй кембриджский год он присоединится ко мне. После окончания мы слетаем в Лос-Анджелес или в Амстердам и поженимся – там, знаешь, с этим просто. Потом купим дом в деревне. Я буду писать стихи, Хьюго играть на рояле и замечательно выглядеть. У нас будут две кошки, Спазма и Клитор. И спаниель. Хьюго любит спаниелей. Спаниель по имени Биффен.
На Тома все это большого впечатления не произвело.
– Десять минут назад заходил Сарджент, – сообщил он.
– Ах, чтоб его! Что ему тут понадобилось?
– Тикфорд требует тебя в свой кабинет, немедленно.
– Зачем?
– Не знаю.
– Не может же быть, чтобы… а тебя он тоже хочет видеть? Сэмми, Хэрни?
Том покачал головой.
– У него не может быть ничего против меня, – сказал Эйдриан. – Откуда?
– Отрицай все начисто, – сказал Том. – Это всегда срабатывает.
– Точно. Самым наглым образом.
– Но должен тебе сказать, – предупредил Том, – там явно что-то заваривается. Сарджент выглядел испуганным.
– Чепуха, – ответил Эйдриан, – у него воображения нет.
– Испуганным до усеру, – сказал Том. Кабинет директора пансиона располагался по другую сторону актового зала. Эйдриан с удивлением увидел, что все старосты стоят, сбившись в стайку, у двери, соединяющей помещения для учеников с квартирой мистера и миссис Тикфорд. Пока он подходил, старосты не сводили с него глаз. Они не посмеивались, не выглядели враждебными. Они выглядели… выглядели испуганными до усеру. Эйдриан постучал в дверь Тикфорда.
– Войдите!
Нервно сглотнув, Эйдриан вошел.
Тикфорд сидел за письменным столом, поигрывая ножом для разрезания писем.
Совершенный психопат с кинжалом, подумал Эйдриан.
Директор сидел спиной к окну, и лицо его пребывало во мраке, не позволявшем Эйдриану прочесть его выражение.
– Спасибо, что заглянули, Эйдриан, – сказал Тикфорд. – Садитесь, прошу вас, садитесь.
– Спасибо, сэр.
– О боже-боже…
– Сэр?
– Думаю, вы навряд ли представляете себе, почему я за вами послал, ведь так?
Эйдриан, олицетворение круглоокой невинности, покачал головой.
– Нет, я полагаю, не представляете. Нет. Надеюсь, слухи еще не распространились.
Тикфорд снял очки и взволнованно подышал на стекла.
– Я должен спросить у вас, Эйдриан… о боже… все это так..
Он надел очки и встал. Теперь Эйдриан хорошо видел его лицо, но понять ничего по-прежнему не мог.
– Да, сэр?
– Должен спросить о ваших отношениях с Полом Троттером.
Так вот оно что!
Этот идиот проболтался кому-то. Вероятно, капеллану. А злобный доктор Меддлар был только счастлив повторить все Тикфорду.
– Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр.
– Это очень простой вопрос, Эйдриан. Проще некуда. Я спрашиваю вас о ваших отношениях с Полом Троттером.
– Ну, я на самом-то деле… на самом деле у нас с ним нет никаких отношений, сэр. Я хочу сказать, мы с ним вроде как друзья. Он иногда гуляет со мной и Томпсоном. Но я знаю его не очень близко.
– И это все?
– Да, сэр, все.
– Чрезвычайно важно, чтобы вы сказали мне правду. Ужасно важно.
Мальчик всегда видит, когда учитель врет ему, подумал Эйдриан. Тикфорд не врал. Это действительно очень важно.
– Ну, вообще-то, есть одна вещь, сэр.
– Да?
– Я, правда, не уверен, что должен рассказывать вам о ней, сэр. Понимаете, Троттер говорил со мной с глазу на глаз…
Тикфорд, склонившись, взял Эйдриана за запястье.
– Уверяю вас, Эйдриан. Что бы Троттер вам ни говорил, вы должны рассказать мне об этом. Понимаете? Должны!
– Это не очень удобно, сэр… может быть, вы у него самого спросите?
– Нет-нет. Я хочу услышать все от вас. Эйдриан сглотнул.
– В общем, сэр, я вчера после полудня случайно столкнулся с Троттером, и он вдруг… вдруг расплакался, и я спросил его, в чем дело, а он сказал, что несчастен, потому что… ну, он как бы…
Господи, как все это сложно.
– Он… ну, он сказал, что несчастен, потому что любит одного человека… ну, знаете, питает к нему страсть.
– Понимаю. Да, конечно. Да, понимаю. Он думал, что влюбился в кого-то. В другого мальчика, я полагаю.
– Так он мне сказал, сэр.
– Троттера нашли сегодня после полудня в сарае на поле Брэндистона, – сказал Тикфорд, подталкивая к Эйдриану по столу листок бумаги. – В кармане у него была вот эта бумажка.
Эйдриан уставился на директора.
– Сэр?
Тикфорд печально кивнул.
– Глупый мальчишка, – сказал он. – Глупый мальчишка повесился.
Эйдриан заглянул в записку. «Мне очень жаль, но я этого больше не вынесу, – прочитал он. – Хили знает почему».
– Его родители уже едут сюда из Харрогита, – произнес Тикфорд. – И что я им скажу?
Эйдриан в ужасе смотрел на него.
– Но почему, сэр? Почему он покончил с собой?
– Назовите мне имя мальчика, в которого он… к которому он питал это чувство, Эйдриан.
– Ну, сэр…
– Я должен знать.
– Это был Картрайт, сэр. Хьюго Картрайт.
Два костюма с Савил-роу[56] – один «Томми Наттер», другой «Беннетт, Тоуви и Стил» – сидели лицом друг к другу за столиком возле окна в «Уилтонсе».
– Приятно снова увидеть туземный продукт, – сказал «Беннетт, Тоуви и Стил». – Я уже начал думать, что он отошел в прошлое.
– Раз уж вы затронули эту тему, – произнес «Томми Наттер", – должен признаться, что я питаю слабость к тихоокеанским. Они как-то сочнее, вы не находите? В них больше плотскости, если существует такое слово.
«Беннетт, Тоуви и Стил» не согласился. Вульгарный вкус по части устриц казался ему типичным для «Томми Наттера».
– "Монтраше" немного тепловато, вам не кажется?
«Беннетт, Тоуви и Стил» вздохнул. Он еще на нянюшкиных коленях усвоил, что переохлаждать белое бургундское ни в коем случае не следует.
В «Уилтонсе» его хорошо знали и всегда старались подавать вино, охлажденное именно до этой температуры. Впрочем, если он затеет читать «Томми Наттеру» лекцию, тот разобидится. Люди его пошиба чувствительны до смешного.
– Ну да ничего, – сказал другой. – Я не жалуюсь. Итак. Поговорим о «Мендаксе». С сожалением должен сказать, что материалы Одиссея ничем шифровальный отдел не порадовали. Решительно ничем.
– Они ничего не смогли расшифровать?
– Нет, вскрыть-то материалы они вскрыли. Старый шифр с перестановками букв. Еще довоенный. Совершеннейшая древность.
– Отлично,– хмыкнул «Беннетт, Тоуви и Стил». – И что там было?
– Имена, адреса, номера телефонов. Куча безвредных австрияков. Взятых прямиком из адресной книги Зальцбурга, представляете?
– Старый прохвост.
– Так что вопрос теперь в том,– "Томми Наттер" жеманно покручивал пальцами ножку винного бокала, – вывез ли Одиссей материалы оттуда или так их там и оставил.
– Почтой к нему ничего не приходило. Это нам известно.
– Ваш подсадной друг все еще окупается?
– О да.
– Хорошо, потому что уж больно этот прохвост жаден.
На это "Беннетт, Тоуви и Стил" отвечать не стал. Можно подумать, будто услуги Телемаха оплачивает „Томми Наттер". Он-то, разумеется, именно так и думает, скорее всего, он никогда и не обнаружит, что деньги идут прямиком из кармана "Беннетта, Тоуви и Стила", а не истребываются в государственных фондах. Это было чисто личное дело, однако Кабинет следовало держать в уверенности, что и для него тут есть своя выгода. Негоже, если они поймут, что Служба трудится исключительно для достижения личных целей "Беннетта, Тоуви и Стила".
– Я думаю, материалы по "Мендаксу" все еще там, – сказал он, – вне стен Илиона.
– Вы хотите сказать, в Зальцбурге? – спросил «Томми Наттер», который и в лучшие-то свои времена путался в кодовых названиях.
– Вот именно. В Зальцбурге.
– Вы сами знаете, все это дело в очень большой степени держится на вас. Вы единственный, кто верит в "Мендакс". Мне вспоминается операция, которую вы проводили в семьдесят шестом, и тоже против Одиссея. Чем тогда завершилась игра?
"Беннетт, Тоуви и Стил" бросил на "Томми Наттера" полный подозрительности взгляд.
– Что значит «игра»? – спросил он. – Почему вы употребили слово «игра»?
– Ну, не лезьте в бутылку, старина Я просто имел в виду, что Трефузис стал для вас чем-то вроде навязчивой идеи. И кое-кого из нас это удивляет. Вот и все.
– Вы еще поймете, что это за фрукт. Послушайте. Я никогда не говорил, что верю в «Мендакс». Но если он не существует, зачем Троянцы и Одиссей пытаются уверить нас в противном? Уж в этом-то нам, наверное, стоит разобраться?
– Хм! - произнес «Томми Наттер». – По крайней мере, пока вся операция обходилась нам довольно дешево, тут я не могу не отдать вам должного. Однако у нас нет ни грана доказательств, что Сабо, я снова забыл, как он у вас называется?
– Елена.
– У нас нет ни грана свидетельств в пользу того, что Елена представляет собой что-либо иное помимо верного слуги своего государства. Господи, да Троянцы его только что орденом наградили.
– Тем больше оснований подозревать Одиссея.
– Кстати, а почему «Елена»? Странное кодовое имя для мужчины.
«Беннетт, Тоуви и Стил» отнюдь не собирался давать "Томми Наттеру" даровые уроки гомеровской мифологии. Интересно, в какой школе учился этот тип? По галстуку ничего не скажешь. Галстук у него, вероятно, от каких-нибудь „Биконсфилдских консерваторов" или чего-то столь же непотребного. Гольф-клуб из Хадли-Вуд, Каршалтонские ротарианцы. Тьфу!
– В свое время оно выглядело не лишенным смысла, – ответил он.
– Угу, – сказал «Томми Наттер», втирая в скатерть хлебную крошку. – Так расскажите мне про этих внуков.
– Штефан – шахматист. Через пару месяцев приедет сюда играть. Не удивлюсь, если они будут держать его на длинном поводке.
– И вы хотите, чтобы я выделил вам ресурсы?
– Я был бы крайне рад получить какие-то деньги, если вы об этом. Тут необходима слежка второй степени.
– Завтра я должен буду скоординироваться, как они там выражаются, с Казначейством. На следующей неделе заседание Кабинета. Э, постойте, вы же не собираетесь закурить?
«Иисусе! – подумал „Беннетт, Тоуви и Опил". – На следующих выборах буду голосовать за лейбористов».
Глава четвертая
I
Тим Андерсон с великим тщанием обдумал вопрос.
– Я не уверен, что сравнение с "Оливером Твистом", каким бы соблазнительным и привлекательным – а я последний, кто станет это отрицать, – оно ни представлялось, настолько точно, насколько это представляется с первого взгляда.
– Но простите, доктор Андерсон, сходствооченьвелико. У нас имеется тайный работный дом, шайка мальчиков, служащих персонажу по имени Полтернек, имеется Питер Флауэрбак, прослеживающий связи своей семьи с близнецами Коттон, совсем как мистер Браунлоу в «Оливере Твисте», имеется Флинтер, обращающийся, подобно Нэнси, в орудие отмщения. Разве эти параллели не поразительны?
Гэри подлил немного «Мерсо» прилипшим к экрану телевизора Дженни и Эйдриану.
– Я не хочу показаться человеком, отрицающим перед вами наличие таких повествовательных перекличек, – ответил Тим Андерсон, – однако я определенно обнаружил бы, что сталкиваюсь с личными затруднениями, попроси меня кто-либо отказать этому произведению в принадлежности Диккенсу зрелому, автору «Крошки Доррит» и «Холодного дома». Я ощущаю здесь более полную картину связного мира, нежели та, которую предъявляет нам «Оливер Твист». Я ощущаю более глубокий гнев, я нахожу себя откликающимся на более полное симфоническое видение. Глава, в которой описывается наводнение, сцена, когда вода подмывает берега Темзы и уносит Притон, являют нам примеры событий, предваряющих дальнейшее, и органичных в большей мере, нежели те, с которыми читатель сталкивается в «Оливере Твисте». Я мог бы навлечь на себя обвинения в ошибочности суждений, попытайся я оспорить тот довод, что характер Флинтера представляет собой развитие и Нэнси, и Артфула Доджера, что – и мы не боимся признать это – приводит нас к Диккенсу, испытывающему ужас, к более, если угодно, кафкианскому Диккенсу. Интервьюер кивнул.
– Насколько я понимаю, университет уже продал права на кино и телевизионную экранизацию «Питера Флауэрбака»?
– Это утверждение не является сущностно некорректным.
– Не тревожит ли вас то обстоятельство, что, сделав это еще до официального удостоверения подлинности рукописи, вы можете в будущем попасть в неудобное положение, если таковую сочтут подделкой?
– Как вы знаете, мы приняли в штат Святого Матфея немалое число новых исследователей, которые проводят сейчас обширную работу по определению степени аутентичности текста. Они прогоняют его лингвистические частицы и кластеры образов через компьютерную программу, которая столь же надежна, как любой химический тест.
– Снятие отпечатков авторских пальцев?
– «Авторские» – привычный термин, а «снятие отпечатков пальцев» – также недалеко от истины.
– И насколько же вы уверены в том, что это подлинный Диккенс?
– Позвольте мне перефразировать ваш вопрос и сказать так: я не уверен в том, что это не Диккенс.
– Позвольте мне перефразировать ваш ответ и сказать «херня», – произнес Эйдриан.
– Тсс! – зашипела Дженни.
– Нет, ну что, в самом деле. Симфонические видения.
– Я не нахожу малозначительным то обстоятельство, – продолжал Андерсон, – что во времена, когда английским отделениям моего и сотен других университетов грозит сокращение финансирования, чисто научное открытие наподобие этого привлекает столько внимания и в такой полноте подкрепляет то, что совершенно справедливо воспринимается как подвергающаяся постоянным нападкам научная дисциплина.
– Открытие определенно очень прибыльное. Как, собственно, оно было совершено?
– О существовании текста меня уведомила моя студентка из Ньюнем-колледжа. Она принимала участие в моих семинарах, посвященных теме «Деррида и несходство полов», и вела по нескольким не зависящим одна от другой линиям исследования девиаций в нормах викторианской морали. Она и обнаружила в библиотеке колледжа Святого Матфея рукопись, затерявшуюся среди старых номеров журнала «Корнхилл».
– А она поняла, на что натолкнулась?
– У нее имелись определенные представления о потенциальном отсутствии маловажности данной рукописи.
– Насколько мне известно, один из филологов вашего отделения – да, собственно, и всего колледжа, – Дональд Трефузис, выразил сомнения в подлинности находки?
– Я считаю себя человеком, который сознает огромную ценность открыто выраженных сомнений. Именно вопросы, которые не устает задавать профессор, и подтолкнули нас к поискам средств, необходимых для изучения манускрипта.
– Доктор Андерсон, многих людей, прочитавших рукопись, и меня в том числе, поразили смелость и детальность, с которыми в ней описываются сексуальная активность и природа детской проституции в Викторианскую эпоху. Как вы считаете, намеревался ли Диккенс когда-либо опубликовать это произведение?
– В настоящее время мы отслеживаем все биографические источники в поисках каких-либо ключей к ответу на этот в высшей степени закономерный вопрос. Возможно, однако, я вправе перефразировать его и спросить: «Стал бы он не уничтожать рукопись, если бы не хотел, чтобы ее прочитали?» А?
– Понимаю.
– Я не могу отказать себе в праве верить, что Диккенс сохранил ее для того, чтобы она была найдена. Поэтому мы ныне в долгу перед ним и обязаны ее опубликовать.
– Разумеется, это незавершенное произведение. В вашем распоряжении имеется всего лишь фрагмент.
– В этом замечании присутствует истина.
– Как вы полагаете, существует ли шанс обнаружить остальную часть рукописи?
– Если он существует, мы несомненно отыщем этот остаток.
– Большое вам спасибо, доктор Андерсон. Три дошедших до нашего времени главы «Питера Флауэрбака» будут в октябре опубликованы под редакцией и с аннотациями доктора Андерсона издательством «Кембридж юниверсити пресс», цена книги составит пятнадцать фунтов девяносто пять. Снимаемый сейчас на Би-би-си сериал с окончанием, дописанным Малкольмом Брэдбери[57], выйдет на экран весной восемьдесят первого года.
Дженни встала и выключила телевизор.
– Ну ладно, – сказал Гэри, – тележку с яблоками мы перевернули, да еще и посреди стаи голубей, это точно. Что будем делать теперь?
– Теперь, – ответил Эйдриан, – будем ждать.
II
Эйдриан отложил трость и ослабил шейный платок. Гэри присел на ступеньку и промокнул лоб нелепейшим из когда-либо существовавших пунцового шелка носовым платком. С пожарной лестницы к ним обратилась Дженни:
– У меня есть несколько замечаний. Существует старое театральное присловье: «Плохие костюмы, хорошая игра». С сожалением должна вам сказать, что костюмы ваши были великолепны. Вся механика спектакля у нас проработана. Чего мы никак не можем предсказать, это времени, которое потребуется публике, чтобы перебраться вслед за Эйдрианом в этот двор. Сегодня нам предстоит это узнать. Все очень просто – идти вперед и смириться с последствиями. Теперь мы просто ждем нашего главного продюсера – публику. Если вы согласны постоять здесь немного под солнцем, я сообщу каждому касающиеся его замечания.
Дженни обратилась к Тиму Андерсону за разрешением на постановку «Питера Флауэрбака», и благодарность, которую тот испытывал к ней за обнаружение рукописи, не позволила ему ответить отказом.
– Дженни, вправе ли я на данном этапе поинтересоваться, как вы собираетесь перенести на сцену то, что в конечном итоге не является пьесой?
– Разве не вы, доктор Андерсон, сказали однажды, что вся театральная энергия викторианской Британии ушла не в драму, но в роман?
– Да, что-то подобное я говорил.
– "Королевская шекспировская компания" намеревается поставить „Николаса Никльби", а ведь „Питер Флауэрбак" куда больше подходит для сцены. Если мы воспользуемся помещением Любительского театра, то сможем вывести публику наружу, вслед за Питером, направляющимся в Притон. Двор сбоку от театра и сейчас уже вылитая викторианская трущоба.
– Безумно увлекательно.
– Вот и прекрасно.
– Дженни, а могу я спросить вас, не нуждаетесь ли вы в какой-либо помощи по части создания окончательного текста пьесы?
– О, пьесу пишу не я. Эйдриан Хили.
– Хили? Не знал, что он получил допуск к рукописи.
– Так или иначе, он ее прочитал.
И вот теперь Дженни спустилась с пожарной лестницы и с пачкой заметок в руке подошла к Эйдриану и Гэри.
– Сцены с Полтернеком в основном хороши, – обратилась она к Гэри. – Но ради бога, заучи как следует его речь в двенадцатой сцене.
– А что такое двенадцатая сцена?
– Та, в которой ты покупаешь Джо. Да, кстати, где Хьюго?
– Я здесь.
– Я хочу порепетировать с тобой и Эйдрианом сцену на Рассел-сквер. Там до сих пор не все ладно. Так, погодите-ка… У меня есть замечания к другим исполнителям. Если вы отправитесь в зал и еще раз пройдетесь по тексту, я подошлю к вам Бриджит, а через десять минут буду сама.
Эйдриан и Хьюго вместе вошли в театр.
– Нервничаешь? – спросил Эйдриан.
– Немного. Мать приезжает. Не знаю, что она об этом подумает.
– Твоя мать?
– Она актриса.
– Почему я об этом ни разу не слышал?
– А почему ты должен был слышать?
– Да, пожалуй, причины отсутствовали. Сцена была бы трудной, даже если бы роль Джо играл не Хьюго, а кто-то другой. Эйдриан мысленно прошелся по ней, точно диктор Радио-3, излагающий краткое содержание оперы.
«Питер Флауэрбак, – нараспев повторял он про себя, – будучи уверенным, что Джо Коттон – сын его сестры, приводит мальчика в свой дом на Рассел-сквер. Попав туда, Джо немедля предпринимает попытку раздеться: он не способен вообразить, что в доме джентльмена от него могут ожидать чего-то другого. Питер и его экономка миссис Твимп успокаивают мальчика и купают его в ванне. Миссис Твимп, которую играет Бриджит Арден, привносит в сцену комедийное начало, путаясь в словах, когда вместе с Питером расспрашивает Джо о подробностях его раннего детства. Воспоминания мальчика до крайности расплывчаты. Он помнит сад, большой дом, светловолосую сестру, но почти ничего сверх этого. На этой стадии Эйдриан Хили, играющий Флауэрбака, обнаруживает, что память подводит и его тоже, и начинает забывать свои реплики.
После ванны Джо проводят, чтобы покормить, в столовую. Вернее сказать, столовая выезжает к ним. И Джо в ужасе узнает на одном из портретов сэра Кристиана Флауэрбака, дядю Питера.
– Этот джентльмен сделал мне больно! – вскрикивает он.
Выясняется, что сэр Кристиан, благодетель и крестный отец Питера, коему предстоит унаследовать баронетство и состояние дяди, был первым осквернившим Джо мужчиной.
Сцена заканчивается ночью, когда Джо прокрадывается в спальню Питера и забирается в его постель. Другие формы дружеского общения и любви ему неизвестны.
Пробудившись на следующее утро, Питер с ужасом обнаруживает, что разделил ложе с мальчиком, который, как он теперь уверен, и уверен пуще, чем когда-либо прежде, приходится ему племянником».
Эйдриан к выбору Хьюго на роль Джо никакого отношения не имел; так, во всяком случае, считалось. Как-то под вечер в его квартиру ворвалась распираемая восторгом Дженни.
– Я только что видела совершеннейшего Джо Коттона! Мы все-таки сможем обойтись без настоящего мальчика.
– И кто же это дитя?
– Он не дитя, он первокурсник Тринити, однако на сцене легко сойдет за мальчишку четырнад-цати-пятнадцати лет. И, Эйдриан, он совершенно такой, каким ты… м-м… каким Диккенс описал Джо. Те же волосы, те же голубые глаза, все. Даже походка такая же, хоть и не знаю, по той же ли самой причине. Он приходил ко мне нынче утром, очень неудобно получилось, он почему-то решил, что я его жду. Наверное, Бриджит все устроила, а мне не сказала. Его зовут Хьюго Картрайт.
– Правда? – сказал Эйдриан. – Хьюго Картрайт, вот оно как?
– Ты его знаешь?
– Если это тот, о ком я думаю, мы с ним состояли в одном школьном пансионе.
Гэри открыл рот, собираясь что-то сказать, но, встретившись взглядом с Эйдрианом, смолчал.
– Я довольно смутно помню его, – сообщил Эйдриан.
– Тебе не кажется, что он идеально подходит для роли Джо?
– Ну, во многих отношениях, наверное, да, подходит. Почти идеально.
Если Хьюго и нервировали соответствия между стодвадцатилетней давности викторианской рукописью и эпизодом из его и Эйдриановой жизни, он об этом ничего не сказал. Не приходилось, однако, сомневаться, что играл он в этой сцене скованно и формально.
– Теперь твой дом здесь, Джо. Миссис Твимп будет тебе матерью.
– Да, сэр.
– Понравится тебе миссис Твимп в роли матери?
– Она хочет присоединиться к нам, сэр?
– Присоединиться к нам, Джо? Присоединиться в чем?
– В постели.
– Господи помилуй, мистер Флауэрбак, паренек настолько свыкся с жизнью в утробе стыда и позора, и это фактический факт, что другой себе даже не представляет.
– Тебе нет необходимости спать с кем-либо еще, кроме тебя и твоего Спасителя, Джо. В мире и невинности.
– Нет, сэр, что вы! Ведь мистер Полтернек, и миссис Полтернек, и дядюшка Полтернек должны получать за своих мальчиков деньги. А я, сэр, – их золотой соверен.
– Прошу тебя, Джо, оденься.
– Господь да возблюет бедное дитя, мистер Флауэрбак. Взгляните, в каком он состоянии. Его следует омыть и дать ему свежее обличение.
– Вы правы, миссис Твимп. Принесите халат и лохань.
– Я мигом, вы и проморгаться не успеете. Из партера Эйдриана окликнула Дженни:
– Как по-твоему, какие чувства ты испытываешь к Джо в этой сцене?
Эйдриан заслонил глаза от света.
– Ну, отвращение, пожалуй. Ужас, жалость, негодование… сама знаешь. Все сразу.
– Это-то да. А как насчет желания?
– М-м…
– Знаешь, мне кажется, тут подразумевается, что Питер с самого начала испытывает сексуальную тягу к Джо.
– Вообще-то, я не…
– По-моему, Диккенс очень ясно дает это понять.
– Но это же его племянник! Не думаю, что у Диккенса бродили подобные мысли в его диккенсовской голове, а ты?
– А я не думаю, что мы можем быть так уж уверены в этом.
– Да почему же не можем?
– Посмотри на Джо. Он стоит перед тобой, полуголый. Думаю, мы должны ощутить… должны ощутить… своего рода подспудное, подавленное желание Питера.
– Ладно! Будет тебе подспудное, подавленное желание. Может, добавить на гарнир еще и отвращение к себе или обойдемся без него?
– Эйдриан, нам через три часа выходить на сцену, пожалуйста, не начинай говниться.
– Хорошо. Не буду.
– Так, Хьюго, что насчет тебя?
– Ну…
– Каково твое отношение к Эйдриану, как ты считаешь?
– Ну, он просто еще один мужчина, так?
– Я не знаю, как любить его, – запел Эйдриан. – Что делать, чтобы привлечь его. Он всего лишь мужчина, а у меня их было так много. И он всего лишь один из них[58].
– Мне кажется, здесь Эйдриан прав, – сказала Дженни. – Не считая того, что он сфальшивил на четверть тона. Вообрази все те странные вещи, которые тебе приходилось проделывать с другими твоими клиентами. То, что тебя искупали и приодели, не кажется тебе таким уж новым и необычным. Тебя учили доставлять удовольствие. Твоя услужливость – это услужливость шлюхи, твоя улыбка – улыбка шлюхи. Думаю, ты можешь позволить себе чуть больше самоуверенности. Пока же ты довольно скован.
– Он всего лишь плоть и кровь, – сообщил Эйдриан. – Глянь-ка, кто стоит с ним рядом.
– Эйдриан, прошу тебя!
– Извините, мисс.
Миссис Твимп внесла поднос с завтраком.
– Сэр, паренька нигде не найдут… о-ох!
Она в изумлении уставилась на голову Джо, покоившуюся на голой груди Питера Флауэрбака.
– Сэр! Сэр!
– О… доброе утро, миссис Твимп…
– Господи помилуй! Отродясь такой распущенности не видела! Мистер Флауэрбак, сэр, я не могу поверить правоте моих глаз. Чтобы вы – да выставили себя напоказ, как искусатель детей, нет, как потаскун откроков, как педестал! Как прародитель порока, распутанник! И чтобы я взирала на такую голую бесстадность, такую утрату иллюзий!
– Успокойтесь, миссис Твимп. Это дитя прокралось сюда ночью, пока я спал. Я до сей минуты и понятия не имел, что оно рядом со мной.
– Сэр! Прошу простить меня… но воззрить его здесь… Я могла прийти только к одному злоключению.
– Оставьте нас, миссис Твимп.
– Может, попробуете возбудить его, сэр! Я думаю, его следует возбудить сию же минуту.
Эйдриан ощутил, как при вызванных этой репликой смешках публики Хьюго напрягся.
– Я разбужу его и пошлю к вам вниз, миссис Твимп.
– А я приготовлю воду для его осквернения. И она удалилась под одобрительные аплодисменты.
Эйдриан сел и уставился перед собой.
– О Господи! Что я наделал? Что, во имя Божие, я наделал?
– С добрым утром, сэр.
– Ах, Джо, Джо! Зачем ты пришел ко мне этой ночью?
– Вы же мой спаситель, сэр. Миссис Твимп сказала, что мне всегда следует помнить об этом. А вы говорили, что я должен спать только с моим спасителем.
– Дитя, я подразумевал…
– Я что-то сделал не так, сэр? Вам не понравилось?
– Мне снилось… Не знаю, что мне снилось. Скажи, что я спал, Джо. Скажи, что проспал всю ночь.
– Вы были со мной очень ласковы, сэр.
– Нет! Нет! Нет!
Свет погас, гром аплодисментов отметил конец акта, и они полежали еще немного, пока кровать ехала за кулисы, где подпрыгивала от волнения Дженни.
– Чудно! – воскликнула она. – Ты только послушай! Здесь люди из «Граниад»[59] и из «Файненшиал таймс» тоже.
– «Файненшиал таймc»? – переспросил Эйдриан. – Это что же, Тим Андерсон задумал основать компанию «Флауэрбак Лтд.»?
– Нет, здесь их театральный критик.
– Не знал, что у них такой имеется. Кто, к черту, читает театральную критику в «Файненшиал тайме»?
– Если рецензия будет хорошая, все прочтут, потому что я собираюсь увеличить ее и вывесить на стене театра.
– Когда заканчивается антракт? – спросил Хьюго.
Никто на последующей вечеринке не спорил с тем, что это была лучшая постановка за всю историю театрального Кембриджа, что Хьюго и Гэри, в частности, предстоит на многие недели стать темой разговоров в Вест-Энде, что Эйдриан проделал отличную работу, адаптировав Диккенса для сцены, и что он должен написать новую пьесу для Дженни, как только ту возьмут в Национальный, до чего остались считанные дни.
– Мой дорогой Хили! – Чья-то рука легла на плечо Эйдриана. Он обернулся и увидел улыбающегося Дональда Трефузиса.
– Здравствуйте, профессор. Ну, как вам?
– Триумф, Эйдриан. Подлинный триумф. Чрезвычайно похвальная адаптация.
– Сойдет за мою оригинальную работу? Трефузис принял озадаченный вид.
– Ну, помните, задание, которое вы дали мне в начале триместра?
– Адаптировать чужой роман? Это и должно было сойти за оригинальную работу? Вы меня, должно быть, не поняли.
Эйдриан был немного навеселе, и хотя он сто раз прокручивал в голове этот миг, все и всегда происходило в квартире Трефузиса и, конечно, без звучащей где-то на заднем плане песенки «Врежь мне твоей ритмической палочкой».
– Да нет же, профессор. Я не об этом. – Эйдриан откашлялся. – Я спросил, сойдет ли в качестве оригинальной работы роман «Питер Флауэрбак»?
– О, разумеется, разумеется. Всенепременно. Я-то на минуту подумал, что вы…
Бриджит Арден, пышнотелая актриса, с таким успехом сыгравшая миссис Твимп, подошла к ним и поцеловала Эйдриана в губы.
– Джулиан скрутил в нижней гримерной косячок, Эди. Присоединяйся к нам.
– Ха! Отлично! Скрутил косячок! Ну, великолепно! Как мне это нравится… она, э-э, просто… ну, вы понимаете, – пытался объяснить Эйдриан, пока оба они смотрели, как Бриджит шустро сбегает по лестнице.
– Разумеется, дорогой коллега! Так вот, я на минуту подумал, как я уже говорил, будто вы ожидаете, что я сочту удовлетворительным выполнением задания адаптацию вашего романа. Но сочинение его я принимаю, и с удовольствием. Превосходная концепция. Он превысил самые оптимистические мои ожидания.
– Вы хотите сказать, что знаете?..
– Помимо трехсот сорока семи анахронизмов, которые еще предстоит обнаружить доктору Андерсону и его группе, мне выпал счастливый случай побывать однажды под вечер у вас на квартире. Как я сумел перепутать лестницы А и Г, представить себе не могу. Обычно я не настолько рассеян. Однако, еще не успев сообразить, что ошибся, я споткнулся о вашу рукопись.
– Споткнулись о пачку бумаг, завернутых в одеяло и спрятанных наверху книжного шкафа?
– Когда я в ударе, я обо что только не спотыкаюсь. Еще первокурсником я ухитрился споткнуться о Кембридж.
– Не сомневаюсь.
– Нелепая небрежность с моей стороны, я знаю. Впрочем, это недуг не одной только старости. Насколько мне известно, ваш друг Гэри Коллинс тоже как-то споткнулся и упал прямо в мою квартиру. А в ней, сколько я понимаю, не успев понять, куда он попал, споткнулся о телефон. Такие недоразумения случаются чаще, чем кажется многим.
– О господи. Но если вы знали все с самого начала, почему же вы…
– Не поднял шума? У меня имелись на то свои причины, и ваша рукопись образцово им соответствовала. Английское отделение Святого Матфея никогда еще не получало так много новых исследователей и такого притока субсидий. Одно только Диккенсовское общество Чикаго… впрочем, вам это не интересно. Я искренне восхищен. Вот уже второй раз вам не удалось разочаровать меня. В наши дни так трудно найти хорошего плута. Вы сокровище, Эйдриан, подлинное сокровище. Хотя одно мне не ясно. Почему вам пришла в голову счастливая мысль сделать местом нахождения рукописи Святого Матфея, а не университетскую библиотеку?
– Ну, я хотел, чтобы она стала собственностью колледжа. В то время я предполагал, что именно вы ее опубликуете.
– И, когда выяснится правда, тухлые яйца полетят в меня? Примерно это я и подозревал. Нет, вы слишком великолепны. Я уверен, мы с вами подружимся.
– Нет, я не совсем это имел в виду…
– Вы оказали своему колледжу великую услугу. Теперь я оставлю вас, уступив место предстоящим увеселениям, бесчинству, наркотикам и плотской разнузданности. Силен с его злобными морщинами не нужен на игрищах юности. О, смотрите, вон – тот молодой человек из Нарборо, которого вы при первой нашей встрече обставили на крикетном поле. Превосходное исполнение, мой дорогой Картрайт. Не стыжусь признаться, что я плакал, не таясь.
Хьюго неуверенно кивнул и подошел к Эйдриану, раскрасневшийся, пошатывающийся, бутылка в одной руке, сигарета в другой.
– И кто это к нам пришел? – поинтересовался Эйдриан. – Аллегория Разгула и Падения?
Хьюго радостно рыгнул и ткнул пальцем в прощавшегося с Дженни Трефузиса.
– А я откуда-то знаю этого старого пердуна, – выговорил он.
– Ты говоришь о старом пердуне, которого я люблю. Этот старый пердун – гений. Этот старый пердун выиграл тысячу фунтов, поставив на Чартхэм-Парк против Нарборо-Холл. Уж крикетный-то матч ты помнить должен.
– Ах да, верно. Ты тогда смухлевал.
– Смухлевал?
– Дональд Трефузис. Дядя Филипа Слэйттери. Друг старины Биффо Биффена из нашей школы. Я все помню. Мнемозина, не следует этого забывать, была матерью всех муз.
Эйдриан удивленно вгляделся в него.
– Совершенно верно.
– По крайности, согласно Гесиоду. Так что он здесь делает, этот старый пердун?
– Он казначей кембриджского театра. К ним подошли Дженни и Гэри.
– Ради бога, кончай пить, Хьюго. При таких темпах ты будешь завтра выглядеть не на четырнадцать лет, а на сорок.
– Человек, только что выставлявшийся напоказ перед четырьмя сотнями людей, включая и собственную мать, имеет полное право напиться.
– Господи, да, я и забыл, здесь же была знаменитая Элен Льюис, – сказал Эйдриан. – Как ей это показалось?
– Очень нахваливала всех и вся, кроме меня.
– Ты не понравился ей? – спросила Дженни.
– Она просто не упомянула обо мне, только и всего.
Дженни попыталась утешить Хьюго, высказав догадку, что дело, скорее всего, в профессиональной зависти. Эйдриан поманил к себе Гэри, который уже вовсю отплясывал с осветителем.
– Трефузис все знает, – сказал он. – Старый прохвост вломился в нашу квартиру. Но это нам ничем не грозит.
– Что именно знает Трефузис? – спросил услышавший его Хьюго.
– Да ничего, ничего.
– Трефузис – это старый пердун, которого любит Эйдриан, – сообщил Хьюго Дженни и всем присутствующим. – Раньше старым пердуном, которого он любит, был я. А теперь Трефузиси-сисис.
– Хватит, Хьюго, пора бай-бай.
– Нет, правда? – спросила Дженни. – А я считала себя старой пердуньей, которую он любит.
– Эйдриан всех любит, ты разве не знала? Он любит даже Люси.
– А кто такая Люси, черт побери?
– О господи, времени-то уже сколько. Дженни, если мы собираемся поспеть в Ньюнем, нам пора…
– Люси – это его собака. Он любит Люси.
– Все правильно. Я люблю Люси. В главных ролях Люсиль Болл и Дези Арназ[60]. А теперь нам и вправду…
– Знаешь, что он однажды проделал в Харрогите? Притворился, будто…
– А, дьявол, его сейчас вырвет, – сказал Гэри.
Основной удар блевотины пришелся на Эйдриана, который с редким для него смирением счел, что вполне его заслужил.
III
– Минуточку, доктор Андерсон, я хочу уяснить, верно ли я вас понял. – Мензис снял очки и ущипнул себя за переносицу, приобретя сходство с играющим в судебной драме актером репертуарного театра. – Ни единое слово, ни единый слог этого документа на деле Чарльзу Диккенсу не принадлежат?
– Бумага и письмо определенно выглядят современными. С другой стороны, почерк…
– Ой, ради всего святого, если чернила изготовлены в двадцатом веке, как же манускрипт может быть собственноручно написан Диккенсом? Или нам теперь следует выделить грант для исследований, которые докажут, что в викторианской Британии пользовались шариковыми ручками? Может быть, вы верите и в то, что Диккенс до сих пор жив?
– Думаю, мне следует напомнить правлению, – сказал Клинтон-Лейси, – что на следующую неделю назначена премьера экранизации. Нам придется сделать какое-то заявление.
– Колледж станет всеобщим посмешищем.
– Это уж наверняка, – согласился Трефузис. – Скетчи в «Недевятичасовых новостях», карикатура Марка Вредоносного.
– Что ж, это ваше отделение, Дональд, – сказал Мензис. – Не могли бы вы, чем просто сидеть и радоваться катастрофе, предложить какое-то решение?
Трефузис загасил сигарету.
– Вообще говоря, именно это я и взял на себя смелость проделать, – сообщил он. – Если никто не против, я прочитаю заявление, которое мы можем, не смущаясь, предложить прессе.
Все сидевшие вокруг стола забормотали, выражая согласие. Трефузис извлек из сумки листок бумаги.
– «Используя программу лингвистического анализа, – начал читать он, – совместно разработанную отделениями английского языка и вычислительной математики, доктор Тим Андерсон, член совета колледжа Св. Матфея и лектор Университета по английской литературе, улучшил и усовершенствовал методы, которые позволили ему точно определить, какие части пьесы „Два благородных родственника" написаны Шекспиром, а какие Флетчером».
– Э-э… я это сделал? – спросил Тим Андерсон.
– Да, Тим, вы это сделали.
– Господи, а Шекспир-то тут при чем? – воскликнул Мензис. – Мы говорим о…
– «Сравнив образцы текста, признанные шекспировскими, с сочинениями графа Оксфорда, Фрэнсиса Бэкона и Кристофера Марло, он получил также возможность доказать, что все образующие шекспировский канон пьесы написаны одним человеком и что Оксфорд, Бэкон и Марло никакого отношения к ним не имеют. Однако в трех из этих пьес присутствуют загадочные пассажи, которые, как представляется, Шекспиру не принадлежат. В настоящее время доктор Андерсон и его группа работают над ними и надеются вскоре получить позитивные результаты. Небезынтересным побочным результатом этой работы стало открытие, что роман „Питер Флауэрбак" написан не Чарльзом Диккенсом, но почти наверняка сочинен неким автором двадцатого века. Существуют, однако, свидетельства в пользу того, что роман этот основан на оригинальном сюжетном замысле Диккенса. Группа доктора Андерсона с большой энергией изучает данное предположение». Думаю, этого хватит.
– Изобретательно, Дональд, – сказал Клинтон-Лейси. – Очень изобретательно.
– Вы чрезмерно добры.
– Ничего изобретательного я тут не вижу. Зачем нам еще и Шекспира сюда приплетать?
– Это отвлекающий маневр, Гарт, – объяснил Клинтон-Лейси. – Имя Шекспира сделает наше заявление куда более интересным для печати, чем имя Диккенса.
– А вся эта болтовня о том, что доктор Андерсон работает над фрагментами из Шекспира и что сюжет романа принадлежит Диккенсу? Это зачем?
– Ну, понимаете, – сказал Трефузис, – она показывает, что в настоящее время мы исследуем все существенные материалы и что в «Питере Флауэрбаке», в конце концов, может присутствовать нечто.
– Но это же не так!
– Мы это знаем, а газетчики – нет. Через пару месяцев обо всей этой истории попросту забудут.
А если кто-нибудь поинтересуется нашими успехами, мы всегда сможем сказать, что доктор Андерсон продолжает работать над проблемой. Я уверен, Тиму по плечу поставить прессу в тупик.
– Так, значит, заявление придется сделать ему?
– Разумеется, – ответил Трефузис. – Я никакого отношения к этому делу не имею.
– Я не вполне уверен в том, в какой мере напряжение, возникающее между этическими границами и допустимыми пределами прагматизма, должно проявлять себя в ситуациях, кои… – задудел Андерсон.
– Ну, видите? Тим отлично справится. Он говорит на единственном из основных европейских языков, понять который я все еще решительно не способен. Журналисты заскучают. Во всей этой истории отсутствует элемент мистификации, способный их разволновать, к тому же в ней слишком много научных тонкостей, чтобы она заинтересовала широкую публику.
– Однако все это означает, что мы так и будем продолжать оплачивать дополнительный штат сотрудников, – пожаловался Мензис. – И все ради одной лишь показухи.
– Да, – мечтательно отозвался Трефузис, – этот изъян тут безусловно присутствует.
– Безобразие!
– Ну, не знаю. Пока их удастся занимать чтением лекций, занятиями с первокурсниками и проверкой подлинности документов, которые нам будут присылать со всех концов света – раз уж нас признали ведущим по части поисков отпечатков авторских пальцев университетом, – уверен, мы найдем для них применение. Не исключено даже, что они окупятся.
IV
– Врешь, – сказал Гэри. – Наверняка же врешь.
– Хотелось бы, – ответил Эйдриан. – Нет, неправильно, я бы такой возможности все равно не упустил.
– Ты желаешь уверить меня, будто торговал своей задницей на Дилли?
– А почему бы и нет? Кто-то этим должен заниматься. К тому же то была не совсем задница.
Он наблюдал, как Гэри расхаживает взад-вперед по комнате. Эйдриан не знал, по какой причине рассказал ему все это. Должно быть, потому, что Гэри слишком часто уязвлял его обвинениями в незнании реального мира.
Все началось с замечания Эйдриана о том, что он всерьез подумывает о женитьбе на Дженни.
– Ты ее любишь?
– Послушай, Гэри. Мне двадцать два года. Я чудом добрался до этого возраста, потому что слишком рано пробудился от дурного сна отрочества. Каждое утро последующих, бог его знает, пятидесяти лет мне предстоит вьлезать из постели и как-то участвовать в повседневной жизни. Я просто-напросто не верю, что способен справиться с этим в одиночку. Мне нужен кто-то, ради кого можно будет вставать по утрам.
– Но ты любишь ее?
– Я великолепнейшим образом подготовлен к долгой ничтожности жизни. Мне нечего больше ждать, пусто-пусто. Зеро, закрываемся, занавес, сладкое, нагло-безмозглое ничто. Единственная мысль, способная придать мне сил для дальнейшей жизни, состоит в том, что чья-то еще жизнь оскудеет, если я уйду из нее.
– Да, но любишь ли ты ее?
– Ты начинаешь походить на Оливье в «Марафонце». «Это безопасно? Это безопасно?» – «Конечно, безопасно. Совершенно безопасно». – «Это безопасно?» – «Нет, это не безопасно. Невероятно не безопасно». – «Это безопасно?» Откуда мне, к черту, знать?
– Ты ее не любишь.
– Ой, отстань, Гэри. Я не люблю никого, ничего и ни единого человека. Собственно, «никого» и «ни единого человека» – это одно и то же, но я не смог придумать третьего «ни». Что напоминает мне… идиотскую рекламу мартини, которая изводит меня уже многие годы. «В любое время, в любом месте, везде». Какая, на хер, разница между «любым местом» и «везде»? Кое-кто из сочинителей рекламы получает тысячи за полную труху.
– Довольно комичная попытка сменить тему. Значит, ты ее не любишь?
– Я уже сказал. Я не люблю никого, ничего, ни единого человека, ни в какое время, ни в каком месте, нигде. И кто вообще кого-нибудь любит?
– Дженни любит.
– Женщины – другое дело.
– Я люблю.
– Мужчины тоже другое дело.
– Голубые мужчины, ты хочешь сказать.
– Поверить не могу, что участвую в подобном разговоре. Ты что, за Эмму меня принимаешь? «Эйдриан Хили, красивый, умный и богатый, обладатель уютного дома и счастливого нрава, казалось, соединял в себе все лучшее, чем может благословить нас жизнь, и прожил в этом мире почти двадцать три года, не найдя ничего, способного причинить ему грусть или досаду»[61].
– Горе или досаду, – думаю, тебе еще предстоит убедиться в этом. Как бы там ни было, описание неплохое.
– Правда? Что ж, возможно, я проглядел некоторые из самых тонких намеков Джейн Остин, однако не думаю, что Эмма Вудхаус провела часть семнадцатого года своей жизни шлюшкой на Пиккадилли. Конечно, я уже года два как не перечитывал этот роман и какие-то косвенные упоминания могли вылететь у меня из головы. Мне также сдается, что мисс Остин уклоняется от описания времени, проведенного Эммой в каталажке после того, как ее арестовали за хранение кокаина. Опять-таки, я более чем готов признать, что она его описала, а я просто упустил предоставленные ею путеводные нити.
– О чем ты, на хрен, толкуешь?
И Эйдриан рассказал ему кое-что о своей жизни в промежутке между школой и Кембриджем.
Но Гэри негодовал по-прежнему:
– Ты что же, собираешься жениться на Дженни, ничего ей об этом не рассказав?
– Не будь таким буржуазным, Гэри. Тебе это не идет.
Гэри все пуще разочаровывал Эйдриана. В начале года Гэри занялся историей искусств – «историей из кустов», как предпочитал называть ее Эйдриан, – и начал понемногу превращаться в другого человека. Кожаные брюки с цепями исчезли, зато появились купленные в секонд-хэнде твидовые пиджаки с торчащими из нагрудных карманов шелковыми носовыми платками. Волосы, обретшие свой естественный темный оттенок, зачесывались назад и смазывались бриолином; ножи и вилки больше не свисали с мочек ушей. Из окон во двор вырывались теперь звуки не «Проклятых» и «Лязга», а скорее Куперена и Брукнера.
– Тебе осталось только усы отпустить, и ты станешь вылитым Роем Стронгом[62], – однажды сказал ему Эйдриан, однако Гэри его слова оставили равнодушным. Он больше не желал изображать симпатичного, совершенно ручного буяна, только и всего. А теперь вот еще и лекции об этике личных отношений взялся Эйдриану читать.
– И вообще, зачем я ей стану рассказывать? Что это изменит?
– А зачем тебе жениться на ней? Что это изменит?
– Ой, давай не будем ходить по кругу. Я уже пытался тебе объяснить. Я сделал в жизни все, что мог. Ожидать больше нечего. Заняться рекламой? Преподаванием? Попробовать поступить на Би-би-си? Писать пьесы и стать голосом поколения Смирных молодых людей? Заняться журналистикой? Податься в актерскую школу? Попробовать свои силы в промышленности? Единственное оправдание моего существования состоит в том, что я любим. Нравится мне это или нет, я отвечаю за Дженни и хотя бы по этой причине должен вылезать по утрам из постели.
– Стало быть, жертвенная жизнь. Ты опасаешься, что, если не женишься на ней, она удавится? Не хочется ранить твое тщеславие, но люди себя так не ведут.
– Да неужели? И никто не кончает с собой?
Не постучавшись, вошла Дженни.
– Здорово, дырки от задницы, я по пути обчистила ваши почтовые ящики. Для тебя, важная персона, большой пакет. Это, случаем, не возбудитель клитора, который мы заказали?
– Скорее всего, утренний гренок, – сказал Гэри, принимая от нее пакет и передавая его Эйдриану.
Эйдриан вскрыл пакет, пока Гэри рассказывал Дженни про «Гренки – почтой».
– Ты два года назад учил мальчишку, и он все еще настолько неравнодушен к тебе?
– Его маленькое верное сердце переполнено любовью.
– Глупости, – возразил Эйдриан. – Это всегда было не более чем замысловатой шуткой. Если в этих пакетах и кроется нечто, то лишь насмешка надо мной.
– Думаешь, он спускает в пакет перед тем, как заклеить его?
– Гэри! – вскричала шокированная Дженни.
– Подмена кота в мешке сперматозоидом в пакете, ты это хочешь сказать? Нет, не думаю, хотя могу гарантировать, что гренок будет слегка отсыревшим. Так, что тут у нас еще есть? Баночка абрикосового джема, кружочек сбитого масла и записка, в которой значится: «И Конрадин сделал себе еще один гренок…»
– Занятный малый.
– А кто такой Кародин? – спросила Дженни.
– Снимите с полки мою картотеку, Ватсон, и посмотрите на «К». Бог мой, сколько негодяев собрано лишь под одной этой буквой! Здесь имеется Каллахан[63], политик, к дверям которого нас привело дело, коему вы, Ватсон, дали в ваших воспоминаниях несколько причудливое название «Зима тревоги нашей»[64]. Есть Кэллоу[65], второй из самых опасных актеров Лондона, человек, любая гримаса которого может оказаться смертельной; Льюис Коллинс[66]; недоброй памяти Лесли Краудер[67];
Марти Кейн – целый каталог бесчестия… но ни одного Конрадина. Питер Конрад[68], изобретатель оперы, Уильям Конрад[69], игравший в «Пушке» Куинна Мартина[70] и ни одного Конрадина.
– По-моему, он взят из рассказа Саки, – сказал Гэри. – Средни Ваштар, барсук[71].
– О да, ты совершенно прав. Или он был хорьком?
– Но к тебе-то это какое имеет отношение? – спросила Дженни.
– Что ж, тут нам придется заглянуть в темное и волглое сознание Ханта-Наперстка. Не исключено, что перед нами просто литературная ссылка на гренок, запас которых, ссылок то есть, у него быстро иссякает. Однако здесь может присутствовать и Значение.
– Конрадин был мальчиком, жившим с ужасной, угнетавшей его теткой, – сказал Гэри. – И он взмолился к Средни Ваштару, своему барсуку…
– Или хорьку.
– И он взмолился к своему барсуку или хорьку, и молитва его была услышана. Средни Ваштар убил тетку.
– А тем временем Конрадин сделал себе еще один гренок.
– Понятно, – сказала Дженни. – Барсук – это своего рода фаллический символ, так получается?
– Ну ей-богу же, дорогая, – ответил Гэри, – ты одержима навязчивой идеей. Этак ты и пенис в фаллические символы запишешь.
– Средни Ваштар есть монстр подсознания, это самое малое, – сказал Эйдриан. – Темное, с жарким зловонным дыханием животное, и Конрадин в один прекрасный день высвобождает его из мрачного укрытия, чтобы обрушить месть на мебельный ситец и чайные чашки тетушкиной гостиной.
– Ты думаешь, этот мальчик пытается внушить тебе какую-то мысль?
– Возможно, его наперсток больше уже не наперсток, а длинная, мохнатая, свирепая зверюга, которая дергается, плюется и мучает тетушек. Я напишу ему, поинтересуюсь.
Эйдриан просмотрел остальную почту. Чек от мамы – всегда желанный, чек на пятьсот фунтов от дяди Дэвида, желанный тем более. Эйдриан быстро уложил их в карман куртки. Напоминания о том, что Билли Грэхем[72] объявился в Кембридже и выступит с проповедью в большом соборе Св. Марии, были всегда монументально нежеланны, равно как и приглашения послушать «Ациса и Галатею»[73], исполняемую на аутентичных инструментах.
– Вот только голоса у них, боюсь, не аутентичные, – высказал предположение Эйдриан, перебирая остаток почты. – Полагаю, лет через двести они станут устраивать концерты музыки «Битлз» на древней «Маршалл»… о, тут еще письмо от старины Биффо, да благословят его небеса.
Биффен был единственным из учителей школы, с которым Эйдриан поддерживал связь. Биффен стал теперь таким пушисто-белым и добрым, так обрадовался каким-то образом просочившимся год назад в школу известиям о стипендии, полученной Эйдрианом в Св. Матфее, что было бы положительной жестокостью не писать ему время от времени, сообщая о своих делах.
Эйдриан пробежался глазами по письму. Биффена распирали новости относительно рукописи Диккенса.
«Дональд пишет, что могут возникнуть сомнения в ее подлинности. Надеюсь, этого не случится».
– Я и забыл, что Биффо знаком с Трефузисом, – сказал, откладывая письмо в сторону, Эйдриан. – Привет! А это что еще такое?
На помятом листке было написано от руки: «Пожалуйста, приходи к чаю в Тринити – Большой двор, В5. Один. Хьюго».
– Как там Хьюго? – спросила Дженни. – Я его со времен «Флауэрбака» почти и не видела.
– Помнится, он довольно бледно выглядел в поставленных Бриджит «Сексуальных извращениях в Чикаго»[74], – сказал Гэри. – То и дело забывал реплики, запинался. С тех пор его в театре не видать.
Эйдриан положил записку на стол и зевнул.
– Скорее всего, зубрит, готовясь к первым экзаменам. Он всегда был ровно таким занудой. Подай-ка мне Джастина с Мирославом.
Вечная лужа в проходе между двумя колледжами – Королевским и Св. Екатерины, – как обнаружил Эйдриан, замерзла. Весне придется с ней повозиться. Он поплотнее обернул шею Мирославом, своим кашемировым шарфом, и вышел под ледяной ветер, порывами налетавший вдоль Кингз-Пэрейд. Нередко говорят, что Кембридж – это первая остановка ветров, дующих с Урала: в тридцатые то же самое было верно и в отношении политики, не только погоды.
Не податься ли мне в политику? – подумал Эйдриан. Привыкший неизменно идти наперекор господствующим тенденциям, он чувствовал, что левые того и гляди совсем выйдут из моды. Длинные волосы уже вышли, расклешенные джинсы тоже, скоро и к пирогам с элем никто уже не будет притрагиваться – канапе и «Сансер» в лучшем случае, хрустящие хлебцы и минеральная вода – в худшем. Трефузис жаловался, что нынешний первокурсник жестоко его разочаровывает.
– Они теперь вступают в ряды студентов и в брак одновременно, если вы простите мне этот силлепсис, – как-то сказал он. – Пристойность, порядок и пустоголовость. Ни легкомыслия, ни безответственности. Помните то дурацкое описание Леонарда Баста в «Говардс-Энд»?[75] «Он отказался от красоты животного ради фрака и набора идей». Замените фрак рубашкой в полоску, и получите современного кембриджца.
Поспешая мимо Сенат-хауса, Эйдриан заметил двух стариков, стоявших перед витриной книжного магазина «Боуз-энд-Боуз». И добавил в свою походку пружинистости, что часто делал, проходя мимо людей пожилых. По представлениям Эйдриана, старикам следовало взирать на его атлетическую упругость с туманной тоской по собственной юности. Не то чтобы он хотел порисоваться или посыпать солью раны дряхлых старцев, нет, на самом деле Эйдриан считал, что оказывает им услугу, возможность испытать ностальгию, как если бы он насвистывал тему из «Хэппидрома»[76] или раскручивал диаболо[77].
Едва миновав, с беззаботной легкостью, стариков, Эйдриан оступился и с глухим ударом рухнул наземь. Один из стариков помог ему подняться.
– Вы не ушиблись, юноша?
– Нет, все хорошо… должно быть, поскользнулся на льду.
Используя Джастина, свой зонт, в качестве трости, Эйдриан заковылял по Тринити-стрит, безжалостно высмеивая себя:
– Жопа ты, Эйдриан. Да еще и обставившая все прочие жопы мира на целую милю. Прекрати это немедленно, или я с тобой разговаривать больше не буду. Так-то вот!
– Какая-то проблема, сэр?
– О, простите, нет… я просто… напевал.
Он и не заметил, что произносит все это вслух. Привратник Тринити окинул его подозрительным взглядом, и потому Эйдриан, дабы доказать, что не соврал, намеренно и недвусмысленно запел, хромая по Большому двору.
– Как решишь ты проблему Марии? – заливался он. – Как поймаешь облачко в небе? Как описать, что такое Мария? Попрыгунья, уклончивая клоунесса.
Квартира Хьюго располагалась в угловой башне. Той самой, в которой лорд Байрон держал медведя, что и навлекло на него гнев властей колледжа, чванливо уведомивших его, что держать домашних зверей в жилых помещениях строжайше запрещено. Байрон же уверил их, что это зверь отнюдь не домашний. Медведь не прирученный, до того уж дикий и свирепый, что дальше некуда, – и властям пришлось с неохотой разрешить ему держать медведя и впредь.
– Как разрешишь ты проблему Марии? Как сможешь поймать лунный луч?
Хыого открыл дверь.
– Я нес с собой банку паштета из кильки, полдюжины картофельных лепешек и пакетик с лично мной приготовленной смесью формозского улунга с апельсиновым чаем, – сообщил Эйдриан, – однако неподалеку от Киза на меня набросилась шайка разбойников и все отняла.
– Ничего, – сказал Хьюго. – У меня есть немного вина.
Похоже, только вино у него и было. Хьюго доверху наполнил две кружки.
– Очень мило, – одобрительно прихлебывая, похвалил Эйдриан. – Интересно, как им удалось научить кошку присаживаться по нужде на бутылку?
– Дешевое, это главное.
Эйдриан оглядел комнату. Количество пустых бутылок заставляло предположить, что дешевизна и вправду составляла тот решающий фактор, коим Хьюго руководствовался при покупке вина. Обставлена квартира была очень скудно – помимо казенных столов и стульев, единственными вещами, которые привлекли любознательное внимание Эйдриана, были стоявшая на столе фотография матери Хьюго, актрисы; висевшая на стене афиша «Питера Флауэрбака», на которой Эйдриан, с цилиндром на голове, уводил Хьюго от рычащего Гэри; горстка томиков «пингвиновской» классики; гитара; несколько пластинок и проигрыватель.
– Итак, Хьюго, старая ты попка, как оно все?
– Все ужасно, – ответил Хьюго.
По виду его сказать этого было нельзя. Пьянство никак не отражается на облике юности. Глаза Хьюго оставались яркими, кожа чистой, фигура подтянутой.
– Работа замучила?
– Нет-нет. Просто я в последнее время много думаю.
– Ну что же, полагаю, для этого мы сюда и поналезли.
Хьюго подлил себе в кружку вина.
– Я решил посмотреть, удастся ли добиться от тебя прямого ответа. Ты совратил меня в мой первый школьный год, а после полностью игнорировал, пока не наврал, будто Свинка Троттер был влюблен в меня… кстати, правду об этом мне рассказал Джулиан Ранделл. А потом ты совратил меня снова, притворясь спящим. Несколько лет спустя, когда ты обманом вырвал у моей школы победу в крикете, ты сказал мне, что вовсе не спал в ту ночь, чего я на самом деле не знал, хоть и уверил тебя в обратном. Что происходит потом? Ах да, ты подделываешь роман Диккенса и выводишь в нем персонажа с моей внешностью, занимающегося любовью с человеком, который выглядит точь-в-точь как ты, пока человек этот спит. По-моему, все. Понимаешь, я хочу знать только одно… что я сделал?
– Хьюго, я знаю, это выглядит…
– Понимаешь, это не дает мне покоя. Должно быть, я сделал что-то ужасное, сам того не заметив, и я хотел бы, чтобы теперь все это прекратилось, прошу тебя.
– О господи, – сказал Эйдриан.
Трудно было соотнести этого молодого мужчину с Картрайтом. Если бы Хьюго тренировал команду другой приготовительной школы и поступил в другой университет, вид вот этого совершенно чужого человека, дрожащего и роняющего слезы в кружку с вином, замутил бы воспоминания о нем.
Так он и есть, конечно же, другой человек – на молекулярном уровне любая часть Картрайта изменялась, надо думать, десятки раз с тех пор, как он был прекраснейшим из людей, когда-либо попиравших землю. Да и прежний Эйдриан, любивший Картрайта, не был тем Эйдрианом, который вглядывался в него нынче. Тут что-то наподобие топора, о котором рассуждает философ. Проходит несколько лет, философ заменяет лезвие, а после и топорище. Затем лезвие снашивается, философ снова заменяет его, а следом – опять топорище. Вправе ли он назвать его тем же самым топором? Почему новый Эйдриан должен отвечать за грехи Эйдриана старого?
– Это так легко объяснить, Хьюго. Легко и очень трудно. Хватит всего одного слова.
– Какого? Ни одно слово этого объяснить не способно. Даже целая Библия слов.
– Слово это достаточно распространенное, но для тебя оно может означать что-то иное, чем для меня. Язык – такая сволочь. Так что давай придумаем новое. «Либбить» – вполне подойдет. Я либбил тебя. Вот и все. Я был в тебя влибблен. Либбовь к тебе наполняла каждый час моего бодрствования и сна в течение… в течение бог знает скольких лет. И не было на свете ничего сильнее этой либбви. Она правила моей жизнью, она не давала мне покоя тогда и не дает теперь.
– Ты был влюблен в меня?
– Ну вот, таково твое слово. Готов признать, либбовь имеет с любовью много общего. Предполагается, впрочем, что любовь созидательна, а не разрушительна, моя же либбовь, как ты обнаружил, оказалась особой весьма вредоносной.
Хьюго вцепился в край своей кружки, уставился в вино.
– Но почему ты не мог?..
– Да?
– Я хочу… все, что ты делаешь… этот чертов журнал, твой сон, крикетный матч, роман Диккенса… все, что ты делаешь, это… это… я не знаю, как это назвать.
– Двулично? Завуалировано? Неискренне? Коварно? Криводушно? Уклончиво?
– Все сразу. Почему ты никогда не говоришь и не делаешь ничего в открытую?
– Пусть я сдохну, если я знаю, Хьюго. Серьезно, пусть я сдохну. Возможно, потому, что я трус. Возможно, потому, что я не существую – я всего только тюк купленной в магазине одежды. Раньше я думал, что все, кроме меня, обманщики. Довольно простой логики, чтобы понять: истина, видимо, в том, что всё – если мы оставим в стороне сумасшедших – обстоит как раз наоборот.
– Черт побери, Эйдриан. Ты хоть имеешь представление о том, как я тебя обожал? Хоть какое-то? Твою одаренность. То, как ты захаживал в раздевалку, переодевшись Оскаром Уайльдом или Ноэлем Кауардом, уж не знаю кем, и разгуливал по ней взад-вперед, точно принц. Рядом с тобой я ощущал себя таким маленьким. И сколько ты всего умел! Мама считает меня скучным. Мне так хотелось быть тобой. Я лежал ночами без сна, воображая, каково оно – быть тобой, с твоим ростом и твоей улыбкой, остроумием и словечками. Конечно, я любил тебя. Не либбил, не лоббил, не луббил и не леббил, – любил.
– О господи, – вздохнул Эйдриан. – Если я найду способ удовлетворительно выразить то, что думаю и чувствую сейчас, ты примешь сказанное мной за словесную увертку, причем последнюю в длинном ряду вербальных злоупотреблений. Пойми! Я не могу назвать это даже «уловкой». Лишь «злоупотреблением словами». Все люди честны, но только не я. Так что, возможно, мне следует просто выть и стенать бессловесно.
Эйдриан растворил окно и, высунувшись в Большой двор, завыл, точно спятивший муэдзин, и выл, пока на глазах его не выступили настоящие слезы. Когда он снова обернулся, Хьюго смеялся.
– По-моему, это называется «голосить по покойнику», – сказал Эйдриан.
– Ну что же, какое-нибудь клише всегда отыщется, – ответил, протягивая ему руку, Хьюго. – Теперь мы можем быть просто добрыми друзьями.
– Тебя ждут, малыш.
– Тебя ждут, малыш.
– У нас есть Париж.
– У нас есть Париж[78]. Эйдриан поднял кружку с вином:
– Выпьем за кончину прошлого.
– За кончину прошлого.
Твидовый, Бесформенная Зеленая В Тонкий Рубчик Куртка С Начесом и Бледно-Зеленый Костюм В Стиле Шанель сидели, совещаясь, в баре "Песочница" клуба „Савил".
– Я очень и очень опасаюсь, что кое-кому в Святом Матфее нельзя доверять.
– Ты полагаешь, Гарту? – спросил Зеленая В Тонкий Рубчик.
– Гарт по преимуществу остался таким же, каким был в твои дни, Хэмфри. Способным привести в исступление, кислым, агрессивным и грубым. По моим ощущениям, это не игрок. Он весь на виду. Да и маловероятно, что его стали бы подключать на столь позднем этапе.
– От Белы что-нибудь слышно? – поинтересовалась Костюм В Стиле Шанель.
– Ни звука. Он знает, что будапештская сеть держит его под самым плотным, какое только возможно, наблюдением. На этот раз Пирси играет на очень высокие ставки.
– А то я не знаю! – откликнулась Бледно-Зеленый Костюм. – Вчера у меня прямо посреди "Уэйтроуза" лопнула сумка.
Остальные прыснули, точно школьники.
– Надо же, – сказал Твидовый. – Ты можешь это как-нибудь объяснить?
– Нет. Я просто сбежала, бросив покупки. Не знаю, когда я еще осмелюсь там показаться.
Они в дружеском молчании занялись чаем.
– Так кто же? – внезапно спросил Тонкий Рубчик.– Если не Гарт.
Твидовый высказал предположение.
– Нет, Дональд, нет!– запротестовала Костюм В Стиле Шанель.
Твидовый пожал, извиняясь, плечами.
– Что за вопиющее дерьмо!
– Ну, быть может, то, что его ввели в игру, окажется довольно полезным ее развитием.
– Не понимаю, каким образом.
– Он пластилиновый.
– Ты хочешь сказать, устаревший?
– Не плейстоценовый, Хэмфри. Пластилиновый. Все мы видели в нем возможного игрока – на будущее, не так ли? Мы знаем, какая это скользкая душонка. Куда лучше иметь его во врагах, чем в друзьях. Все становится намного забавнее и сложнее, чем я ожидал. Интрига сгущается, как наилучшие девонширские сливки.
– Если Пирси намерен вести игру столь грязную, Дональд, не стоит ли и нам последовать его примеру?
– А знаешь, Хэмфри прав,– сказала Костюм В Стиле Шанель. – Почему бы не попросить помощи у Нэнси и Саймона?
– Битва лояльностей? – задумчиво произнес Твидовый. – Я к тому, что Саймон как-никак работает у Пирси.
– Мне хочется верить, – сказала Бледно-Зеленый Костюм В Стиле Шанель, – что подлинная лояльность Саймона коренится на уровне более глубоком.
– Что ж, хорошo. Завербуйте их и ознакомьте с основными правилами игры. Скоро в Англии появится Штефан. Привезет новости от Белы и о нем. Знаете, все это чрезвычайно занятно.
– А игра не может выйти из-под контроля? – спросил Тонкий Рубчик. – Я не уверен, что мне так уж понравится привнесение элемента убийства. Пирси, как тебе известно, поражений не переносит.
– Я тоже, – ответил Твидовый. – И потерпеть таковое не собираюсь.
Глава пятая
– Ты был его лучшим другом, – сказала миссис Троттер. – Он так много рассказывал о тебе, какой ты умный и занятный. Он был очень к тебе привязан.
– Что ж, миссис Троттер, – ответил Эйдриан. – Я тоже был привязан к нему. Как и все мы.
– Надеюсь, ты и… и другой мальчик… Картрайт… сможете приехать на похороны.
Плача, она становилась копией Свинки.
В этот вечер, после того как Тикфорд официально объявил на вечернем богослужении новость, весь пансион пребывал в состоянии слегка истерическом.
– Некоторые из вас, я не знаю… могут знать, – произнес Тикфорд, – могли уже услышать, я не знаю, что у нас случилась трагедия. Пол Троттер сегодня днем покончил с собой. Не имею представления почему. Мы не знаем. Просто не знаем. И не можем знать.
Пятьдесят пар глаз повернулись, точно на шарнирах, в сторону Эйдриана. Почему первым делом послали за ним? О чем он так долго совещался за закрытыми дверьми с Тикфордом и родителями Свинки?
С Картрайтом все еще никто не побеседовал. Он ничего не знал и тоже обратил глаза, большие и испуганные, на Эйдриана.
– Боюсь, он должен был чувствовать себя очень несчастным, – продолжал, обращаясь, судя по всему, к потолку, Тикфорд. – Не знаю почему. Но мы вознесем за него молитву и препоручим душу его Господу. Отче Всесильный…
Опустившись, чтобы помолиться, на колени, Эйдриан почувствовал прикосновение чьего-то бедра. Бедра Ранделла.
– Что?
– Я его видел, – прошептал Ранделл. – Вчера, на кладбище, он поднялся наверх и сел рядом с тобой.
– И что же?
– Укрепи его милосердием Твоим, очисти любовью Твоей…
– А потом вы вместе спустились, и он плакал.
– Это никак не связано со случившимся.
– Да что ты?
– Аминь.
Том вопросов не задавал, Эйдриан же не мог заставить себя рассказать ему что-либо.
На следующее утро Биффо прислал Эйдриану записку. «Какая ужасная, удручающая новость. Мы с Элен страшно расстроены. В прошлом году я был преподавателем Троттера, такой прелестный мальчик. Надеюсь, Вам не трудно будет прийти к нам и поговорить о случившемся. Если, конечно, Вы этого хотите. Элен и я будем очень рады, если в этом триместре Вы сможете почаще бывать у нас по пятницам. Со всем моим сочувствием в это ужасное время. Хэмфри Биффен».
После полудня, когда Том с Эйдрианом играли в криббедж, кто-то постучал в их дверь.
– Аванти!
Это был Картрайт, и вид он имел испуганный.
– Можно поговорить с тобой, Хили?
Том, увидев лицо Картрайта, потянулся за книгой и темными очками:
– Я, пожалуй, пойду, порасту над собой.
– Спасибо, Томпсон. – Картрайт стоял, глядя в пол и ожидая, когда Том закроет за собой дверь.
– Присаживайся, – сказал Эйдриан.
– Я только что был у Тикфорда, – сказал Картрайт, не то не услышав приглашения, не то не приняв его.
– Угу.
– Он говорит, что Троттер был вроде как… вроде как влюблен в меня. И что сказал ему об этом ты.
– Ну, так говорил мне Троттер.
– Но я его даже не знал! Эйдриан пожал плечами:
– Мне жаль, Картрайт, но тебе ведь известно, какова наша школа.
Картрайт сел в кресло Тома и уставился в окно.
– Ох, черт побери. Теперь по всей школе разговоры пойдут.
– Ничего не пойдут, – сказал Эйдриан. – Тикфорд никому говорить не станет. Я уж тем более.
Знаешь, я даже Томпсону не сказал, а ему я рассказываю все.
– Да, но Тик говорит, что я должен поехать на похороны. Что об этом подумают?
– Ну… – ответил, быстро шевеля мозгами, Эйдриан, – я тоже еду на похороны. Распущу слух, что твои родители дружат с родителями Троттера.
– Пожалуй, это сработает, – сказал Картрайт. – Но зачем тебе вообще было говорить что-то Тикфорду?
– Это же самоубийство! Он оставил записку. В ней значилось: «Хили все объяснит», – примерно так. Что еще я мог сделать, как не сказать правду?
Картрайт поднял на него глаза.
– А Свинка… Троттер говорил… говорил тебе, как давно с ним это, ну, эти чувства ко мне?
– По-видимому, с тех пор, как ты появился в школе.
Картрайт поник и уставился в пол. Когда он снова поднял голову, в глазах у него стояли слезы. И выглядел он рассерженным. Рассерженным и, на взгляд Эйдриана, прекрасным, как никогда.
– Почему он заговорил стобой?– воскликнул Картрайт. – Почему мне не мог рассказать? И зачем было убивать себя?
Гнев, прозвучавший в голосе Картрайта, поразил Эйдриана.
– Ну, полагаю, он боялся, что… что ты его отвергнешь, или еще чего-то. Я в этих вещах не разбираюсь.
– Боялся оказаться отвергнутым сильнее, чем смерти?
Эйдриан кивнул.
– Значит, теперь мне придется до конца жизни просыпаться каждое утро с мыслью, что я виноват в чьем-то самоубийстве.
Слезы покатились по лицу Картрайта. Эйдриан склонился и сжал его плечо.
– Ты вовсе не должен так думать, Хьюго. Не должен!
Никогда еще Эйдриан не называл его Хьюго, да и не прикасался к нему ни разу с тех пор, как они на скорую руку обменялись любезностями в уборной пансиона – а это было еще до того, как Эйдриан понял, что влюблен.
– На самом деле я ответственен не меньше твоего, – сказал Эйдриан. – Даже больше, уж если на то пошло.
Картрайт удивленно уставился на него:
– Как это?
– Ну, – произнес Эйдриан, – я мог бы посоветовать Троттеру поговорить с тобой, верно? Сказать, чтобы он не держал все в себе.
– Но ты же не знал, что может случиться.
– Как и ты, Хьюго. А теперь давай вытри глаза, а то ребята и вправду поймут, что с тобой что-то не так. Мы съездим на похороны и через пару недель обо всем забудем.
– Спасибо, Хили. Прости, что я так…
– Эйдриан. И прощения тебе просить не за что.
Между этим днем и тем, когда они поехали в Харрогит, Эйдриан с Картрайтом не обменялись ни словом. Эйдриан несколько раз замечал его в окружении приятелей – вид у Картрайта был такой, словно ничего и не случилось. Пансион изо всех сил старался побыстрее забыть о неприятном событии. О Троттере вспоминали с чем-то вроде того презрения и отвращения, какое здравомыслящие юные англичане приберегают для больных, сумасшедших, бедных и старых.
Похороны были назначены на десять утра, поэтому Тикфорд решил, что выехать следует вечером предшествующего похоронам дня и провести ночь в отеле. На протяжении всего пути Картрайт смотрел в окно.
Посмертная власть, которую возымел над ним Троттер, начинает раздражать беднягу, думал Эйдриан.
Тикфорды тоже молчали. Они исполняли долг, не находя в нем никакого удовольствия. Эйдриан, никогда не причислявший себя к числу путешественников опрятных и чистеньких, дважды просил миссис Тикфорд остановить машину: его рвало.
Эйдриану так и не удалось понять, чего ради он припутал сюда Картрайта. Своего рода месть, полагал он. Но месть за что? И кому? Призраку Троттера или живому и здоровому Картрайту?
Нет, он не Сладко-Горький Паслен, он Паслен Смертоносный. Всякий, кто имеет с ним хоть какое-то дело, получает смертельную дозу яда.
Так ведь они же не существуют, раз за разом повторял себе Эйдриан, пока машина неслась, дребезжа, по Большой Северной дороге. Других людей не существует. И Троттер вовсе не умер, потому что он и не жил никогда. Все это просто хитроумный способ испытать его, Эйдриана. И во всех легковушках и грузовиках, мчащихся на юг, никого нет. Не может существовать столько отдельных душ. Нет ни одной, подобной его. Для них попросту не нашлось бы места. Не может такого быть.
А что, если призрак Троттера наблюдает за ним? Теперь-то уж Троттеру известно все. Простит ли он?
Отныне надо начинать приспосабливаться.
Он мог бы и раньше догадаться, что Тикфорд снимет для него и Картрайта общий номер с двумя кроватями. В конце концов, расходы оплачивала школа.
Номер размещался в конце скрипучего коридора. Эйдриан распахнул дверь и кивком пригласил Картрайта войти.
Мужественность, безразличие, деловитость, сказал он себе. Двое молодых, здоровых школьных друзей делят одну берлогу. Холмс и Ватсон, Банни и Раффлз[79].
– Итак, старина, – какую кровать выбираешь?
– Да мне в общем-то все равно. Пусть будет вот эта.
– Ладно. Тогда первым делом затаскиваем сумки в ванную комнату.
Как и в любом английском отеле, в каком когда-либо останавливался Эйдриан, в этом было до ужаса перетоплено. Пока Картрайт чистил в ванной зубы, Эйдриан, раздевшись догола, скользнул в постель.
«Так вот, Хили, – предостерег он себя, – веди себя прилично. Понял?»
Едва Картрайт, облаченный в великолепную небесно-синюю пижаму, вышел, с раскачивавшейся на запястье сумочкой для умывальных принадлежностей, из ванной, Эйдриан загасил лампочку в изголовье своей кровати.
– Ну что, Картрайт, спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Эйдриан закрыл глаза. Он слушал, как Картрайт сбрасывает шлепанцы и укладывается.
«Не дай ему выключить свет. Пусть возьмет книгу. Пожалуйста, Господи».
Он навострил уши и услышал шелест переворачиваемой страницы.
«Спасибо, Господи. Ты сокровище».
Следующие пять минут Эйдриан посвятил тому, чтобы сделать свое дыхание более глубоким, замедлить его ритм, дабы всякий, кто на него взглянет, мог бы поклясться, что он крепко спит.
Затем он принялся создавать впечатление сна более тревожного. Для начала он повернулся на бок и тихо застонал. Пуховое одеяло соскользнуло на пол. Эйдриан перекатился к краю кровати, сбросив с себя и верхнюю простыню. Еще через минуту он резко крутнулся назад, ударив ногой, отчего простыня присоединилась к одеялу.
Теперь он лежал в постели голым, дышал отрывисто и дергался. Свет у Картрайта еще горел, однако страницы переворачиваться перестали.
– Эйдриан?
Это был всего только тихий шепот. Но принадлежал он безусловно Картрайту.
– Эйдриан… – пробормотал, вернее, наполовину всхрапнул в ответ Эйдриан, поворачиваясь к Картрайту лицом – рот нараспашку, глаза закрыты.
– Эйдриан, с тобой все в порядке?
– В долине никого не осталось, – резко взмахнув рукой, ответил Эйдриан.
Он услышал, как скрипнула кровать Картрайта. «Идет, – подумал он, – идет, черт, идет!» Ступни Картрайта зашлепали по полу. «Он рядом, я чувствую!»
– Я съем их потом… после, – простонал Эйдриан. Он услышал шорох простыни, почувствовал, как на него набрасывают одеяло.
«Не может же он просто укрыть меня на ночь! Не может. У меня эта штука толщиной с молочную бутылку. Живой он человек или кто? Ладно, поехали дальше. Риск – благородное дело».
Он изогнулся дугой и засучил ногами вверх-вниз.
– Люси? – спросил он, на сей раз громко. Откуда взялось это имя, Эйдриан ни малейшего понятия не имел.
– Люси?
Он выбросил руку в сторону и поймал Картрайта за плечо.
– Люси, это ты?
Одеяло снова медленно сползало с него. Внезапно он ошутил у себя между бедер теплую ладонь.
– Да, – сказал он, – да.
Потом мягкие волосы промахнули по его груди, язык лизнул в живот.
«Хьюго, – вздохнул он про себя. – Хьюго!» – и вслух:
– Ох, Люси –Люси!
Эйдриана разбудил звук спускаемой в уборной воды. Он был укрыт одеялом, солнечный свет пробивался сквозь щель в шторах.
– О господи! Что я наделал? Из ванной появился Картрайт.
– С добрым утром, – весело сказал он.
– Привет, – пробормотал Эйдриан, – сколько, к дьяволу, времени?
– Семь тридцать. Хорошо спал?
– Боже, как бревно. А ты?
– Неплохо. Ты все время разговаривал во сне.
– Ой, прости, – сказал Эйдриан. – Со мной это бывает. Надеюсь, я не лишил тебя сна.
– И все звал Люси. Кто это?
– Правда? – Эйдриан наморщил лоб. – Ну, у меня была собака, которую звали Люси…
– А, понятно, – отозвался Картрайт. – А я-то удивлялся.
«Срабатывает неизменно», – сказал себе Эйдриан, переворачиваясь и вновь погружаясь в сон.
Похороны были скромные. Недолгое прощание с недолгой жизнью. Эйдриану родители Троттера обрадовались, с Картрайтом же были вежливы, однако полностью скрыть неприязнь к нему не сумели. Его красота, его бледность, подчеркиваемая темным костюмом, – все это оскорбляло память их низенького, толстого, заурядного сына.
После службы все поехали в фермерский дом Троттеров, стоявший в пяти милях от Харрогита. Одна из сестер Свинки подарила Эйдриану его же фотографию – он лежал на животе, наблюдая за крикетным матчем. Эйдриан, сколько ни старался, не смог припомнить, как Троттер сделал этот снимок. Никто не прокомментировал того обстоятельства, что фотографий Картрайта у Троттера не имелось.
Мистер Троттер спросил Эйдриана, не хочет ли он приехать на летние каникулы, пожить у них.
– Ты когда-нибудь стриг овец?
– Нет, сэр.
– Тебе понравится.
На обратном пути за рулем сидел Тикфорд. Эйдриану предложили место с ним рядом. Никому не хотелось, чтобы его снова рвало.
– Прискорбная история, – сказал Тикфорд.
– Да, сэр.
Тикфорд махнул себе ладонью за плечо, указывая на Картрайта, который тихо посапывал, привалившись к миссис Тикфорд.
– Надеюсь, вы никому не сказали, – произнес он.
– Нет, сэр.
– Теперь вам следует заняться учебой, Эйдриан. Триместр начался плохо. Сначала мерзкий журнал, теперь вот это… и все в первую неделю. Повсюду распространяются дурные тенденции, я вот гадаю, могу ли я рассчитывать на вашу помощь в борьбе с ними?
– Ну что же, сэр…
– Возможно, случившееся – это просто толчок к тому, чтобы вы начали наконец относиться к себе серьезно. Мальчики, подобные вам, обладают огромным влиянием. И от того, на достижение каких целей оно направлено, хороших или дурных, зависит разница между школой счастливой и школой несчастливой.
– Да, сэр.
Тикфорд похлопал Эйдриана по колену:
– Я чувствую, что смогу положиться на вас, Эйдриан.
– Сможете, сэр, – сказал Эйдриан. – Даю вам слово.
В школу они вернулись в четыре. Кабинет Эйдриана оказался пустым. Видимо, Том отправился к кому-то пить чай.
Разыскивать его Эйдриану не хотелось, и потому он приготовил себе гренки и занялся заданием по латыни, с которым уже запаздывал. Если он собирается начать новую жизнь, сейчас самое подходящее время. Потом он написал ответ Биффо. Посещай все его пятницы. Больше читай. Больше думай.
Едва Эйдриан успел приступить и к тому и к другому, кто-то постучал в дверь.
– Войдите!
Вошел Беннетт-Джонс.
– Право же, Р. Б.-Д. Сколь ни лестны мне знаки твоего раболепного внимания, я вынужден попросить тебя найти другого товарища по играм. Я человек занятой. Виргилий призывает меня через века.
– Да? – плотоядно осклабился Беннетт-Джонс. – Ну, прости, так уж вышло, что Тикфорд призывает тебя в свой кабинет, только и всего.
– Боже мой! Пять минут разлуки, а он уже изнемогает без меня. Скорее всего, ему нужен мой совет по поводу смещения одного из вас с должности старосты. Что ж, я всегда полагал, что наилучшая кандидатура – это миляга Джереми. Укажите мне путь, молодой человек, укажите мне путь.
Тикфорд, смертельно бледный, стоял за своим письменным столом.
– Вот это, – произнес он, предъявляя книжку в бумажной обложке, – принадлежит вам?
О Господи… о Иисусе Христе… Это был принадлежащий Эйдриану экземпляр «Голого завтрака».
– Я… я не знаю, сэр.
– Ее обнаружили в вашем кабинете. Она надписана вашим именем. Больше ни у одного ученика школы такой книги нет. Старосты проверили это сегодня утром по приказанию директора школы. Итак, ответьте мне еще раз. Это ваша книга?
– Да, сэр.
– Скажите мне только одно, Хили. Вы сочинили журнал в одиночку или были еще и другие?
– Я…
– Отвечать! – рявкнул Тикфорд, хлопнув книгой о стол.
– Один, сэр.
Тикфорд смотрел на Эйдриана, тяжело дыша через ноздри, – ни дать ни взять загнанный в угол бык.
«Ах, мутота размудацкая. Сейчас он мне врежет. Он совсем не владеет собой».
– Отправляйтесь в ваш кабинет, – сказал наконец Тикфорд. – И не покидайте его, пока за вами не приедут родители. Никто не должен ни видеть вас, ни говорить с вами.
– Сэр, я…
– Убирайтесь с глаз моих, вы, вредоносное маленькое дерьмо.
Форменная Фуражка торопливо вошел, помахивая листком бумаги, в контору таможни, где сидел, глядя в телевизор, Темно-Серый Костюм.
– Товарищ капитан,– сказал Фуражка, – вот список содержимого багажа делегации.
– Для начала, можете забыть о вашем дерьмовом "товарище", – сказал, беря листок, Темно-Серый Костюм.
– Вещи Сабо перечислены в самом верху, господин.
– Читать я умею.
Темно-Серый Костюм просмотрел список.
– Всех остальных членов делегации обыскивали так же тщательно?
– Точно так, же, тов. капитан Молгар.
– Книги по шахматам проверили?
– Проверили и заменили идентичными экземплярами, на случай, если. – Форменная Фуражка с надеждой взмахнул рукой. Он не понимал, что уж такое могли содержать в себе шахматные руководства. – На случай микроснимков? – прошептал он.
Темно-Серый Костюм презрительно всхрапнул.
– А этот приемник в багаже Рибли?
– Самый обычный приемник, капитан. Товарищ Рибли много раз вывозил его за границу. А что, его тоже подозревают?
На этот вопрос Темно-Серый Костюм не ответил.
– Похоже, у Ксома очень тяжелый чемодан.
– Он старый. Кожаный.
– Проверьте его рентгеном.
– Да, господин.
– Да, капитан.
– Да, капитан.
– Так-то лучше. Форменная Фуражка кашлянул.
– Капитан, господин, почему вы выпускаете Сабо из страны, если он.
– Если он – что?
– Я... я не вполне уверен, господин.
– Сабо – один из самых талантливых молодых гроссмейстеров мира. Будущий Портиш. Вся эта проверка – обычное испытание вашей расторопности и ничего больше. Вы поняли?
– Да, капитан.
– Да, товарищ капитан.
– Да, товарищ капитан.
Темно-Серый Костюм негромко хмыкнул. Он и сам не знал, что искал. Но англичане уже многие годы хорошо платили ему, и раз им вдруг захотелось, чтобы он отработал свои деньги, вряд ли у него есть основания жаловаться. В конце концов, работа нисколько не опасная. Он просто исполнил привычные свои обязанности, и если власти обнаружат его странный интерес к Сабо, они скорее наградят его за рвение, чем расстреляют за измену.
Сегодня утром он порылся в личном деле Сабо, пытаясь найти причины неожиданного приказа англичан. Ничего там не было: Штефан Сабо, совершенно безупречный гражданин, внук героя Венгрии, ее большая шахматная надежда.
Решение npишлo к Темно-Серому Костюму, точно ослепительная вспышка. Штефан Сабо вознамерился переметнуться во время турнира в Гастингсе в стан врага. И англичане хотели убедиться в том, что он честный перебежчик, что не везет с собой никакого оснащения, указывающего на цели более темные.
Но зачем преуспевающему шaхматисту перебегать к врагу? Шахматисты зарабатывают хорошие деньги, которые им разрешают оставлять у себя, им дозволены неограниченные выезды за рубеж, счета в заграничных банках. Господи боже ты мой, Венгрия все-таки не Россия, не Чехословакия. Темно-Серый Костюм, уже много лет изменявший своей стране, ощутил возмущение, гнев на юного перебежчика.
"Экое дерьмецо, – подумал он. – Чем уж так нехороша ему Венгрия, чтобы удирать из нее в Англию?"