murgatrojd
Летнее сердцестояние
Аннотация
В один прекрасный день все люди на Земле замерли, словно в поставленной на паузу компьютерной игре, а на электронных табло, мониторах и ТВ-экранах появилась надпись: «НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
В один прекрасный день все люди на Земле замерли, словно в поставленной на паузу компьютерной игре, а на электронных табло, мониторах и ТВ-экранах появилась надпись: «НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
себе ужин. Люди включили телевизор, а там – новости. «Сегодня ничего
плохого не произошло! На Земле все прекрасно! Будьте счастливы!»
И это было началом конца.
Anna54
* * *
У Салли мерзли ноги.
Это было странно: летом в Коннектикуте довольно жарко. Стоячий воздух и зашкаливающие температуры душили Нью-Лондон уже несколько дней, ведущие новостей отчитывались о количестве лесных пожаров и победах над ними… а у Салли мерзли ноги. От нечего делать он потер ступней о ступню и решил размяться – походить немного по вокзалу, пока его поезд не прибыл.
На экранах в зале ожидания расцветала заставка NBC Nightly News, и мистер Холт готовился рассказать американцам, что плохого произошло в мире за последние сутки. Салли немного постоял, задрав голову и глядя в экран. Потом отвернулся. Выплюнул жвачку, аккуратно завернул её в бумажку и поместил в карман – рядом с парой монет, жетончиком метро и пропуском в Нью-Хейвенский технологический колледж (кампус в Нью-Лондоне, карточка для персонала; срок действия – 1 год, обновить в октябре).
Смотреть вечерние новости ему не хотелось. То есть, хотелось… Вообще-то, он любил вечерние новости.
В обычный день они с Сид освободились бы к четырем часам и взяли такси. Добравшись до дома, занялись бы любовью на диване в гостиной, после чего Сидни уселась бы за курсовую по экономике природопользования, а Салли – за составление учебного плана для второкурсников. В шесть они приготовили бы ужин и, возможно, в честь пятницы откупорили бутылочку вина.
В шесть тридцать начинались вечерние новости, и они с Сид смотрели бы их вместе. Семейная традиция, сдобренная хорошей едой и болтовней «за жизнь». Сид хохотала бы, рассказывая о дураках-однокурсниках, и говорила, что нужно позвонить брату – она давно не звонила брату, ему обязательно нужно позвонить! Салли всегда был «за», если дело касалось её брата. Честно говоря, когда в две тысячи шестнадцатом Салли таскался к ним во двор, отирался рядом и набивался в друзья, то надеялся замутить не с девчонкой из этой семьи, а с красивым до обморока парнишкой.
К сожалению, красавчик Энди был слишком гетеросексуален, а Салли – слишком мягок и стеснителен, чтобы его соблазнить. Когда сестра Энди решила, что Салли будет с ней встречаться, он просто не успел (да и постеснялся бы) сказать ей «нет».
Сид, наверное, догадывалась, что её возлюбленный неровно дышит к её брату. Но такие мелочи, как чья-то сексуальная ориентация или чужое мнение, не могли её остановить. Сидни решила, что они будут счастливы, и… ну, в общем-то, Салли был счастлив.
По-своему.
Увы, сегодня их семейная традиция трещала по швам. Салли пришлось ехать к дядюшке – работнику электростанции, - чтобы обсудить с ним стажировку для студентов, а Сид вторые сутки ночевала дома у подруги, приглядывая за животными. Животных было двое – толстая рыжая кошка и хитрожопый лысый ублюдок. У Салли язык не поворачивался назвать ЭТО котом. А Сид любила лысого ублюдка, и однажды даже сказала, что хочет себе такого.
Так или иначе, судьба оторвала Салли от его девушки, и вместо семейного ужина его ожидал безвкусный бургер и экраны в зале ожидания, с которых доносились обрывки новостей.
- … в результате теракта погибло шесть человек, более двадцати получили ранения. К счастью, оперативные действия полиции…
Салли поморщился.
В мире всегда происходило какое-то говно.
- Благодаря усилиям комиссара Эдвина Броуди, троих нападавших удалось задержать. Один из них воспользовался…
Бах.
Бум.
Если волны не смывают города с лица земли, а смерчи в Бирмингеме не уносят людей, человечество все равно ухитряется себе гадить.
К счастью, Салли это не касалось. Люди глупы и сами себе вредят, но он тут ни при чем.
- Стали известны причины падения военно-транспортного самолета, разбившегося в Орландо. Технические специалисты вскрыли…
Удивительно, как может измениться твоя жизнь, окажись ты не в то время не в том месте. Увы, справедливо и обратное: где бы ты ни оказался, судьба все равно тебя настигнет.
Так было в этот раз.
Окажись Салли дома, к шести тридцати они бы сели за стол, включили новости и... случилось бы то, что случилось. Но он был не дома. И все равно не ускользнул от судьбы – нет, сэр, от судьбы не уйдешь! Если она решила раздавить тебя, как блоху – раздавит, будь уверен.
- Что это?
- Какой бред. Это шутка?
- Мисти, Мисти, смотри сюда! Это же неприлично! Куда смотрят… кто там управляет телеканалами, режиссеры? Или продюсеры? Мисти, кто управляет телеканалами?
- Ха-ха, Джо, эти парни – такие приколисты… Сфоткай меня на фоне, ну сфоткай!
Когда всё началось, Салли отреагировал в лучших традициях стадного инстинкта – сделал то же, что и каждый в зале ожидания. Поднял голову, уставившись на центральный экран. Трансляция новостей была прервана, а белые буквы на черном фоне гласили:
«НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
Люди дожидались своих поездов, покупали билеты и волокли чемоданы на колесиках. Они не хотели быть счастливы. Назойливая надпись их бесила.
- Я буду жаловаться! Это какой-то розыгрыш?
- Мам, оно везде. Экраны на улице, ну, те, рекламные… там тоже оно.
- И на табло с расписанием поездов… Везде!
Люди зашевелились. Кто-то включал телефоны и планшеты, кто-то открывал ноутбуки, выглядывал из окон, пытался звонить… Но везде было одно и то же. На экранах планшетов и мобильников, ноутбуков и терминалов, электронных табло и даже банкоматов высвечивались два предложения:
«НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
Часть людей хлынула на улицу, часть – в сторону поездов. Салли потянулся вместе с ними, забросив на плечи тощий рюкзак. Он выглядел не очень солидно – недостаточно солидно для человека, преподающего синергетику конденсированных сред. Светловолосый, слегка растрепанный, с блеклой щетиной на подбородке и щеках – он сегодня брился, честно! Просто она быстро росла. Поверх майки наброшена клетчатая красно-белая рубашка, джинсы – в меру потрепанные, но не настолько, чтобы это было неприлично. Красные кеды. Растерянный взгляд. Глаза… такие блеклые, словно он всю жизнь только и делал, что смотрел на солнце, и из-за этого пигмент в радужках выцвел. Сид говорила, что они её пугают – эти его светлые глаза. Широко распахнутые, с легкой безуминкой в глубине зрачка. Как у всех, кто лучше разбирается в моделировании стохастических систем, чем в природе человеческих отношений.
Возле платформы не было поездов, зато открывался потрясающий вид на рельсы, поднимающуюся за ними волну лесопарка и эстакаду вдали. Летний вечер томился, вдавливая город в бетон и асфальт, и наполнял легкие жарким воздухом. Какой-то парень больно пихнул Салли локтем. Он отступил – и тут же налетел на двухметрового рыжего верзилу, обогнул его, лавируя между людьми, и вскинул голову. На табло вместо расписания рейсов цвели белые буквы:
«НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
Люди шумели. Почему-то это смутило Салли. Он отступил назад, позволяя человеческой волне схлынуть. Начал поднимать перед собой руку, чтобы взглянуть на часы (интересно, сколько времени длится неразбериха?), как вдруг…
Он не понял, что произошло.
Просто мир шумел, шептал, переговаривался сотней голосов – и вдруг замолк. Поднятая рука замерла. Салли попытался вскинуть брови – но не смог этого сделать. Словно все его тело, все его лицо, каждая его мышца разом одеревенели.
Будто его парализовало.
Что-то внутри – то, что гнездилось в груди с раннего детства, - лизнуло Салли шершавым языком. Смертельный ужас – вот, что это было.
Салли стоял. Пытался шевельнуть руками, пытался сдвинуться хоть на миллиметр – и не мог.
Люди, находящиеся в поле его зрения, тоже не двигались.
Прямо к Салли направлялся (а теперь уже – нет) высокий мужчина с аккуратно подстриженными, уложенными ото лба блеклыми волосами. Справа лицо мужчины было побито крупными рытвинами – то ли следы от оспы, то ли ожоги… а может, последствия отравления диоксином. Салли видел такое в новостях – кажется, такой штукой отравили президента одной из тех маленьких стран. Украина или Белоруссия… Он не помнил.
В шаге от мужчины стоял рыжий верзила, на которого Салли недавно налетел. Верзила смотрел на табло, запрокинув голову, и к его нижней губе прилипла тлеющая сигарета. Чуть дальше стояла девушка. Красная желейная конфета свешивалась из её рта, напоминая струйку крови.
Были еще какие-то люди… Все они стояли. Как неживые. Словно их заморозили по мановению волшебной палочки. Они тянули руки, жевали бутерброды, тащили за собой чемоданы… И никто из них не мог сдвинуться с места. Они замерли, как восковые статуи в нелепом, ужасающем музее величиной с вокзал.
Салли подумал: интересно, как он сейчас выглядит? Наверное, так же глупо, как девушка с конфетой. Стоит, задрав руку, и тупо пялится перед собой. Уголок его рта недоверчиво поджат, а брови – тревожно нахмурены. Ему стало стыдно за свое идиотское выражение лица. Скоро сюда приедут военные… или спецназовцы, или кто там занимается разруливанием подобных инцидентов – и будут на него смотреть. Может даже посмеются.
К сожалению, тело Салли его не слушалось, и исправить выражение лица он не мог. Так что просто стоял. И смотрел перед собой. И табло в поле его зрения утверждало:
«НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
Все это выглядело, как дурацкий флэшмоб. Словно они сговорились и замерли на минуту или две. Словно все это – шутка, такой вот дебильный розыгрыш. Это же не всерьез! Разве можно бояться того, что ты просто замер? Тебе не оторвало руку или ногу, ты не испытываешь дискомфорта, не истекаешь кровью, не задыхаешься, ты…
На эстакаде полыхнуло алое зарево. Затрепыхалось, лизнув небо розовым язычком, а потом рассыпалось, расплылось в стороны и стало горячим и густым. Клубы дыма вырывались откуда-то снизу и тянулись, отжирая у неба кусок за куском.
И Салли вдруг понял, что всё это – всерьез.
«НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО», - утверждали белые буквы на черном табло.
«БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ».
Салли молчал, будучи не в силах возразить.
Эстакада пылала.
Наверное… - подумал Салли.
Наверное, так закончится мир.
Словно подтверждая его мысли, табло вдруг погасло.
* * *
Чтобы понять, что его сердце не бьется, Салли потребовалось почти три часа.
Оно и впрямь не билось, его глупое маленькое сердце. Салли со многим готов был смириться – с тем, что его парализовало; с тем, что грудная клетка отказывалась двигаться при дыхании; даже с тем, что глазные яблоки застыли в орбитах, и Салли был вынужден довольствоваться тем углом обзора, который достался ему в момент «икс».
Но сердце! Как оно могло его предать? Как вообще можно оставаться живым, если твое сердце не бьется?
Сначала Салли запаниковал. Что, если он по какой-то причине умер, а все, что он видит – просто диковинная предсмертная галлюцинация? Что, если он споткнулся и разбил себе голову об стену, или его столкнули под поезд, или…
Салли думал об этом, и его трясло. Ну… его трясло бы, не окажись его тело соляной статуей.
Однако его мозг, похоже, всё еще функционировал. Салли прислушивался к себе и так, и эдак – может, сердце просто слишком тихо работает? Трудновато измерить себе пульс или положить ладонь на грудную клетку, если твои руки не гнутся. И потому Салли делал единственное, что было ему доступно – слушал себя. Прислушивался к тому, что происходит во внутренностях. Выводы были неутешительными: там не происходило ровным счетом ничего. Сердце его не сжималось и не выталкивало кровь в артериальную магистраль. Желудок не бурчал. Даже дыхание остановилось. Вот так, Салли проверил по часам – прошло уже три часа и двенадцать минут с тех пор, как мир остановился, и за это время он не сделал ни единого вдоха.
Он не мог, не должен был оставаться живым.
Но почему-то оставался.
Все хорошо, - утешал себя Салли. Наверное, это какой-то газ, или секретное оружие правительства, или особое излучение… В нескольких милях отсюда – Милстоунская АЭС, где работает его дядя. Может, там что-то произошло? Какая-нибудь авария вроде тех, что становятся сюжетами для фантастических блокбастеров?
Что бы там ни было, это ненадолго. Нужно собраться с силами и потерпеть. Ему же не больно… Он не задыхается. Даже не хочет есть или пить. Его существование выглядит вполне комфортным – ну, если можно считать комфортной одиночную камеру размером с твое тело.
К сожалению, не каждому в замершем мире было комфортно. Сигарета рыжего верзилы дотлела до губ, и теперь Салли изо всех сил сосредотачивал внимание на мужике с разъеденным оспой лицом. Лишь бы не видеть, что там происходит с губами рыжего. Салли не хотел узнавать, насколько хорошо «заморожены» их тела. Да, они не нуждаются в воздухе и сердцебиении, но устойчивы ли они к огню? Что, если сигарета обожгла губы верзилы, и теперь они покрыты красными волдырями – медленно вспухающими и уродующими кожу, как неизлечимая болезнь?
У Салли скопилось слишком много вопросов, на которые он и хотел, и не хотел отвечать. Например – как долго это продлится? Еще пару часов? Или сутки? А может, дольше?
Что будет завтра, когда после ночной прохлады на землю навалится испепеляющая полуденная жара? Если та сила, которая остановила их сердца, не позаботилась о терморегуляции, то завтра они все умрут.
А что случится, когда они проголодаются? Или захотят пить? Быть может, Салли ожидает мучительная смерть без еды и воды? Прямо тут – на сумасшедшем летнем солнце, в Нью-Лондонском филиале ада?
Или…
Ох.
Об этом думать было страшнее всего.
Что будет, если на вокзале начнется пожар? Начало темнеть, но вдали еще виднелось алое зарево над эстакадой. Автомобильная трасса – вот, что там было. Если эффект «заморозки» распространился на эстакаду, то сотни водителей потеряли власть над своим телом на скорости семьдесят миль в час. Многочисленные аварии, загорающиеся моторы, разлившийся по дороге бензин…
Адское пекло. Люди горели в вонючем бензиновом аду и не могли оттуда выбраться. Что будет, если вокзал загорится тоже? Салли представил, как к нему подбирается огонь, как вспыхивают джинсы… Он бы покрылся мурашками с головы до ног, если б мог.
Салли боялся огня.
Боялся ожогов. Боялся даже прямых солнечных лучей – от них его кожа мгновенно обгорала и слезала мерзкими белесыми хлопьями. Эти хлопья напоминали обрывки папиросной бумаги, и даже представлять их было противно.
От мыслей о пожаре у Салли должно было вырываться сердце из груди – но сердце, кажется, давно его покинуло, и тело стало мертвым, словно слепленным из пластика. Станет ли оно еще мертвее, если начнется пожар? Или пламя оближет его, как мраморную статую, и не причинит вреда?
Эстакада пылала… и находилась слишком далеко, чтобы дать Салли ответы на мучающие его вопросы. Зато рыжий верзила находился совсем рядом. Салли набрался смелости и попытался сфокусировать взгляд, чтобы рассмотреть его губы.
Кажется, на них не было волдырей.
Кажется…
В глазах потемнело. Не было ни колотящегося сердца, ни прыгнувшего артериального давления, не было сухости во рту и глазах (господи, какое счастье! в первые минуты Салли искренне переживал за свои глаза, ведь теперь он не мог моргать). Его не беспокоил тремор рук или губ, его не тошнило, на него не накатывали приливные волны жара или озноба. Ничего такого не было, но ощущения всё равно напомнили ему панический приступ. Наверное, Салли слишком долго оставался спокоен, и теперь его организм решил отыграться.
Он бы упал, если бы его тело не было фиксированной точкой времени и пространства. Он бы затрясся и не удержался на подломившихся коленях, а потом, скорей всего, выблевал бы тот бургер и полбутылки персикового йогурта.
Салли не был смельчаком. Его психика не годилась для таких испытаний – господи, да его психика ни для каких испытаний не годилась! Он даже боялся ругаться с официантами, которые принесли ему не то блюдо – что уж говорить о внештатных ситуациях вроде… ну… конца света?
Мир медленно, но неотвратимо погружался в темноту. Наступал вечер, датчики зажигали на станции освещение, и когда очередная лампа вспыхнула совсем рядом, ударив светом в лицо, Салли потерял сознание.
* * *
Трудно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как он отключился. Сознание было ватным и слишком тупым, чтобы сфокусировать взгляд на часах.
Какое-то время Салли дрейфовал туда-сюда, от бессознательного состояния к полубессознательному. Он не чувствовал ног. Если задуматься, рук он тоже не чувствовал. Даже лица. Словно его и не было. Словно от Салли остался только взгляд.
Пытаясь хоть немного прийти в себя, Салли начал мысленно проговаривать названия глав из своей методички, подготовленной для третьекурсников.
Синергетика самообразующихся систем.
Микроскопическое условие самоорганизуемой критичности.
Термодинамическое описание мартенситных состояний…
Он трижды сбивался, а иногда – забывал, как правильно звучит то или иное слово. Он не мог этого забыть. Он с двенадцати лет был гиком, помешанным на математическом моделировании, как он вообще мог забыть что-то подобное? Осознав это, Салли забился, как муха в комке жвачки. Его тело – ту часть тела, которую он чувствовал, - бросило в жар. Как быть, если это – повреждение мозга? Вдруг «статуи» не были в достаточной мере обеспечены кислородом, и это сказалось на функционировании его памяти?
А может, это панический приступ? Может, если он успокоится…
Но Салли не хотел успокаиваться.
Салли хотел биться в истерике. Салли хотел кричать. У него не было пакета, чтобы в него дышать, у него не было рук, которыми он мог бы держать этот пакет, у него даже не было дыхания.
Его всего лишили, всего, всего!
Его сознание корчилось, а кислорода, кажется, и впрямь начало не хватать.
А вокруг была ночь…
И освещенный вокзал, полный людей и безмолвный.
Эстакада горела. Потрескивала нагретая за день щебенка на рельсах. С сухим шелестом остывала платформа, и все здание вокзала похрипывало, поскрипывало, шуршало за спиной Салли, словно диковинный монстр, готовый его съесть. Издалека доносился шум одиночных взрывов – может, это были машины, а может, баллоны с пропаном. А может, что-нибудь еще.
Мужик напротив – с рытвинами на лице, строгим бордовым пиджаком и мышастой шевелюрой, - смотрел на Салли укоряюще. Так ему показалось. И только взгляд живой статуи, которая недавно была человеком, смог его отрезвить. Салли перестал колотиться в рамках своего тела и медленно, клеточка за клеточкой, мысль за мыслью обмяк. Расплылся, как мидия в створках своего панциря.
В голове его воцарилась звонкая, зияющая пустота – словно оттуда разом вымели все мысли. Приступ паники прошел, и Салли вдруг смертельно, до рези в глазах захотелось расплакаться.
* * *
Удивительное дело: порой нам кажется, что вынужденное бездействие не является чем-то плохим. Мучаясь бессонницей или застряв в пробке, ты всегда можешь пофантазировать о чем-нибудь. Придумать новую главу книжки – а то и всю книжку, на которую тебе уже давно намекает заведующий кафедрой. Мысленно перебрать список вещей в доме и решить, что выбросишь в следующую генеральную уборку. Рассмотреть окружающих и придумать, что они из себя представляют…
На всё про все у Салли ушла пара часов.
Даже на книжку. Честно говоря, он давно уже решил, что и как будет писать – оставалось только провести компьютерное моделирование сверхпластических сред и получить добро у местной профессуры.
Кошмар его нынешнего положения заключался в том, что ночь была бесконечной, а Салли решительно нечем было себя занять. Только рассматривать людей, которых он уже рассмотрел, и думать о том, как там Сид. У неё все хорошо? В каком радиусе подействовала «заморозка»? Пострадал ли только пригород, или все побережье, или весь Нью-Лондон? Или Коннектикут? Или США? Или…
Шум колес, донесшийся издали, заставил Салли напрячься. Наверное, у него бы даже ладони вспотели, если бы не… ага.
Если бы не.
Это был не первый поезд, который прошел мимо станции. Они, эти поезда, рассекали ночь шумом колес и грохотом металла – такие резкие, словно начерченные карандашом безумного художника. Ни в одном из поездов не горел свет. Каким-то чудом ни один из них пока что не столкнулся с другим, но долго ли продлится везение? Стрелки не переводились, рабочие не следили за путями, и вся железнодорожная сеть должна была рано или поздно выработать свой потенциал и образовать чудовищный затор. Салли представил себе это: длинные, напоминающие металлических гусениц поезда, тела которых сплетаются в кошмарный лязгающий ком.
Одни поезда везли людей, а другие…
В паре метров от платформы прогромыхал маневровый локомотив. Салли не мог повернуть голову, но при удалении от станции хвост поезда попал на периферию его зрения. Похоже, грузовой. Бесконечная вереница цистерн, каждая из которых несла в себе… что?
О-о-о-о, еще один вопрос без ответа. Вопрос, который тревожил Салли острее всего. Он чувствовал этот вопрос, как иглу, медленно входящую под ноготь.
Может быть, в этих цистернах безвредный технический спирт. А может, еще более безвредное пищевое масло. А что, если в цистернах хлор? Что, если поезд сойдет с рельсов, и смятые, искореженные цистерны исторгнут из себя удушающую газовую волну? Главное правило химии: хлор не хочет улетучиваться, хлор хочет ползти по земле и умертвлять всё, что встретит на своем пути.
А сколько другой опасной дряни перевозится по железным дорогам? А в автомобилях, которые сегодня разбились? На самолетах, которые сегодня упали? На кораблях, которые теперь дрейфуют без человеческого контроля? Скоро они вспорют своими гигантскими носами побережье Нью-Лондона, и…
Салли не знал, что тогда произойдет. Наверное, мир постепенно задохнется. Погрязнет в отходах, в промышленном яде, в разливающейся из танкеров нефти. Сначала Салли думал, что снова хочет плакать, а потом осознал, что хочет молиться.
Боженька, ежи еси на небеси, может, ты сделаешь с этим что-нибудь? Ну хоть что-нибудь!
Пожалуйста, - думал Салли.
Пожалуйста, Боже, пусть окажется, что от этой напасти пострадал только пригород! Пожалуйста, пусть… Он же не против немножко побыть статуей. Он очень даже «за»! Но только если будет знать, что Сид, и Энди, и рыжая кошка, и даже лысый ублюдок, маскирующийся под кота, будут свободно распоряжаться своими телами.
Салли безмолвно пялился на мужика с изрезанным оспой лицом, и молился впервые за двадцать семь лет.
* * *
За пару часов до рассвета воздух начал нестерпимо вонять.
Салли даже подумал, что галлюцинирует. Он немного знал о сенсорной и социальной депривации, но то, что знал, сводилось к одному простому утверждению: наш мозг привык обрабатывать тонны всякой информационной херни. Если он недополучит её извне, то начнет синтезировать самостоятельно.
Не секрет, что узники депривационных камер начинают галлюцинировать уже спустя несколько часов.
Конечно, Салли все еще имеет в своем распоряжении зрение и слух… но можно ли считать два чувства полноценной заменой всем остальным? Он давно уже не ощущал своего тела. Даже рука с часами, задранная на уровень лица, казалась чужой – словно рука манекена, которую зачем-то пихнули Салли под нос.
Вот уже девять с лишним часов он ничего не осязал. Не ощущал гравитацию. Не дышал. Не моргал. Не жил.
Девять с лишним часов ужасающего летнего сердцестояния.
А сколько нужно, чтобы мозг Салли начал продуцировать то, чего не существует в природе?
Как бы он ни принюхивался – а принюхиваться довольно сложно, если твои легкие не работают, и даже ноздри не шевелятся, - Салли так и не понял, что за вонь раскалывает его голову напополам. Это не было запахом нечистот, или бензина, или чего-то такого, что легко опознать. К счастью, это также не было утечкой газа. Салли не хотел задохнуться или загореться, словно упырь из молодежной книжки, когда взойдет солнце. Конечно, его непослушное тело было той еще сукой, но всё-таки оно было его собственным. У Салли еще были планы на эти руки, ноги, и даже светлую припыленную шевелюру, которую давно уже следовало подстричь.
Об этом ему вчера по телефону напомнила Сид.
Сид…
Сидни.
Салли опять начинал задыхаться. Странное это ощущение – задыхаться, не дыша…
* * *
Еще ни разу в жизни он не ожидал рассвета с таким нетерпением. Словно мир, который должен был открыться его глазам, будет другим. Обновленным. Магическим! Словно пытка длительностью в одиннадцать часов и шесть минут была не зря.
Сидни. Вот, что помогло ему продержаться до утра. Салли стоял, уткнувшись взглядом в мужика с изуродованным лицом, и вспоминал кукольное личико Сид.
Они с братом были похожи. Энди тоже был яркий – черноволосый, с этой его модной удлиненной стрижкой. Пряди слегка завивались на кончиках, и он дерзко откидывал их со лба, открывая безупречно красивое – как у модели, - смеющееся лицо. Было в нем что-то такое… до дрожи порочное. По крайней мере, Салли представлял себе порочность именно так.
У Энди были ямочки в уголках рта и светлые, ртутного цвета глаза. Резкая линия челюсти, словно вырезанная рукой мастера. Смуглая кожа, прикасаться к которой было упоительно сладко – даже если ты просто дотронулся до его предплечья, когда вы садились в такси.
Сидни была в чем-то похожа на брата, а в чем-то – нет. У неё тоже были блестящие черные кудри, только её шевелюра доходила до середины лопаток, а не до основания шеи. У нее была похожая форма лица, и точно такие же ямочки в уголках губ. Сидни была красивой…
Жаль только, у неё не было члена.
Иногда это становилось проблемой: то, что она не парень. Из-за этого прелюдия могла длиться часами – у Салли не вставал, и вместо скоростного забега он мучительно долго ласкал тело Сид пальцами и языком. О, он любил это делать… Она была красивой и отзывчивой – вот так. Откликалась на каждое движение его языка. Поначалу Салли было ужасно стыдно это делать, а потом – нет.
Она так кричала…
Боже.
Он бы все отдал, чтобы её брат так же орал от удовольствия, когда Салли будет ему отсасывать.
* * *
Первый поезд сошел с рельсов, когда солнце начало всерьез раскалять вокзал.
Салли этого не увидел, и мог только по звукам догадываться, что происходит за пределами его поля зрения. Судя по скрежету и визгу, с которым железо терлось о железо, на рельсах разыгралась шекспировская драма в трех частях.
Через полчаса мимо станции прошел пассажирский поезд, и, судя по звукам, встретился с грузовым составом, перегородившим колею.
Куча мала, - подумал Салли. Теперь тут будет валиться с рельсов поезд за поездом… А часть из них остановится еще раньше – на других станциях, налетев на стену из перевернутых вагонов.
Вдали скрежетало, и Салли подумал: что сейчас выливается из раскуроченных цистерн? Может, безобидный яблочный концентрат? А может, тягучий бензол? Или глицерин? Или мазут?..
Ему представилась Сид, вся измазанная в мазуте – как она морщится и вытирает ладонью щеки. Как отбрасывает за спину перепачканные темные волосы, а те слипаются длинными прядями и влажно завиваются на концах.
Роберт Бартоломью Салливан, - мысленно сказал себе Салли, - возьми себя в руки! С Сидни все хорошо. Пострадал только пригород. С Сидни все будет в порядке…
Он пытался не думать о том, что в этом случае до пригорода уже добрались бы спасательные службы. Или военные. Или хоть кто-нибудь…
Но никого не было.
Ни единой души, словно чудовищное бедствие накрыло всю Америку. Как будто все они, - беспомощные, слабые, - теперь застыли, словно мушки в янтаре.
* * *
Солнце вставало.
Мир накалялся, и в какой-то момент Салли подумал, что уже готов вспыхнуть, как спичка. Но этого не случилось. По примерным расчетам, его уже должен был настичь тепловой удар, но его мозг функционировал, а тело не ощущало ни жара, ни боли.
Обнаружилось и еще кое-что интересное. В новом мире – мире без сердцебиения, - не было голода и жажды. Салли пятнадцать часов находился без еды и воды, но не нуждался ни в том, ни в другом.
Не было и других, менее приятных основ человеческой жизнедеятельности – таких как позывы к мочеиспусканию и дефекации. Будто его тело, как изысканный цветок, теперь питалось при помощи фотосинтеза и вбирало кислород из воздуха.
Похоже, смерть от жажды можно было вычеркнуть из списка угроз.
В без пятнадцати двенадцать на платформу выскочила кошка. Поджимая лапы и уши, прокралась между человеческих ног, принюхалась к ботинку рыжего верзилы, а потом ускользнула за пределы того, что стало для Салли его новой вселенной. Эта вселенная вообще-то неплохо справлялась без людей. Мимо Салли то и дело шныряли мухи и жуки, от лесополосы доносились резкие птичьи вопли, а появление кошки подтвердило, что не все млекопитающие были проколоты булавкой и зафиксированы, как бабочки в чьей-то извращенной коллекции.
Значит, если Сид попала в зону катастрофы…
Теперь она там одна. Красивая и неподвижная, как статуя в музее. Запертая в квартире с живыми, очень даже подвижными тварями – толстой рыжей кошкой и лысым ублюдком, которого Салли ультимативно отказался признавать котом.
От этой мысли его внутренности скрутила судорога, и в какое-то мгновение Салли казалось, что его все-таки стошнит.
Но его не стошнило.
Желтое светящееся пятно ползло все выше – поднималось над пригородом, и небо за ним было синим, беспощадным и горячим, как тысяча солнц.
Интересно… - думал Салли, не отрывая взгляд от мужика перед собой. Его мышастые волосы и некрасивое, изуродованное болезнью лицо теперь казались притягательными. Впрочем, в приступе смертельной скуки Салли казалось притягательным всё, кроме кошек.
Интересно…
Может, на этом солнце его глаза – пугающие, так думает Сид; его светлые глаза, глаза шизофреника, глаза гения, глаза чокнутого математика, - наконец-то выгорят до белизны?
* * *
Сначала Салли думал, что это просто солнечные зайчики, скачущие на периферии зрения. Потом солнце обошло его со спины, но солнечные зайчики решили, что останутся с ним навсегда. Они плясали… Танцевали вальс, колыхались то туда, то сюда… Такие воздушные, словно кусочки сладкой ваты.
Салли был приличным мальчиком из приличной семьи, и никогда не употреблял наркотики. Напиваться до зеленых чертей ему тоже не доводилось – только однажды Энди напоил его так, что Салли потом полночи проторчал в туалете.
Это была первая галлюцинация в его жизни.
Наверное, если все галлюцинации такие, то в депривации нет ничего ужасного.
* * *
С двух часов пополудни и до глубокой ночи воздух был наполнен дымом. Его тянуло по железнодорожным путям откуда-то с севера – то ли от перевернутых поездов, то ли со стороны автострады… Салли не знал.
Ему, честно говоря, было плевать на дым. У него была проблема поважнее.
Говорят, что женщины способны испытать множественный оргазм. Их тела сотрясает волна за волной – невыносимое блаженство, амброзия пополам с манной небесной, залитая прямо в глотку. Ну, или еще куда-нибудь… туда, откуда обычно добывают оргазмы.
Представляя себе, как мозги женщины спекаются от слишком сильной, почти невыносимой эмоции на грани добра и зла, Салли и не думал, что однажды переживет нечто похожее. Правда, к оргазмам это не имело никакого отношения.
Сейчас он переживал пять стадий принятия смерти – как по книжке, одну за другой. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Каждая эмоциональная волна, накрывающая Салли с головой, содержала их в себе поровну. Сначала он был неверующим Фомой – не может, не может такого быть взаправду, это сон, это галлюцинация из-за добавленного в воду ЛСД, это отравление угарным газом, мучительная судорога умирающего мозга. Потом он впадал в гнев: рвался из своего тела, словно мог его разломать изнутри, бился в нем, обдирая себя до костей, задыхаясь в приступе испепеляющей ярости. Потом он торговался с Богом: давай, Боженька, давай! Яви свою силу! Хватит меня наказывать, хватит быть мудаком! Я сделаю все, я буду верен тебе, хоть в монастырь уйду, только пожалуйста, пожалуйста… пожалуйстапожалуйстапожалуйста.
Потом он обмякал, как лягушка, сварившаяся в кипятке. Ярость его покидала. Ему не хотелось плакать – о нет, чтобы плакать, нужны эмоциональные силы. А у Салли их не было – ни эмоциональных, ни каких-то еще.
Затем он принимал свое тело – таким, каким оно стало. Его руки не двигались, его глаза были вечно распахнуты и смотрели перед собой, и иногда по левому проползала муха. Трудно сказать, почему для насекомых был привлекателен только левый глаз, а правый они игнорировали… Наверное, это не так уж важно. Салли наблюдал за мухой равнодушно, словно сидел в скафандре, а муха ползла снаружи по прозрачному шлему.
Отрицание.
Гнев.
Торг.
Депрессия.
Принятие.
На все про все у Салли уходило несколько секунд.
Как на оргазм.
Одна волна уходила, а ей на смену являлась другая. И всё повторялось по той же схеме: отрицание, гнев, торг… Салли сотрясало штормовым прибоем, выворачивало наизнанку этой пульсацией – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, отрицание, гнев… Он не мог ни о чем думать. Не мог сосредоточиться. Не мог даже потерять сознание, хотя очень надеялся на это.
Салли страстно хотелось отключить свой мозг.
Если бы только он мог.
* * *
«Кот в переноске».
Это была первая контролируемая мысль за несколько часов. В остальное время Салли трясло от страха (он умрет! он уже мертв, только мозг еще не понял этого), эйфории (он бессмертен! он будет стоять тут вечно; сменятся целые эпохи, а он будет стоять и смотреть) и депрессии (ложь ложь ложь все ложь государству плевать всем плевать нам никто не поможет вы обещали нам помогать нас беречь но все это ложь ложь вера ложь бог лжет надеяться не на кого я не смогу я не смогу так больше я не хочу жить не хочу смотреть пожалуйста господи я не хочу смотреть).
Но потом пришла мысль: «кот в переноске».
И сознание Салли вдруг прояснилось.
Если бы он мог двигаться, он бы размяк и опустился задницей прямо на бетон. Лицо его стало бы равнодушным и безвольным, тревожная морщинка между бровей разгладилась, а губы перестали кривиться.
У него было гладкое, ничем не примечательное лицо – плавные черты, словно выровненные чьей-то рукой, сглаженные, сред-не-ста-ти-стические. У него были блеклые волосы, выгоревшие на солнце, жесткие из-за водопроводной воды и шампуня, который ему не подходил.
Он бы хотел отдохнуть. Лечь спиной на раскаленную платформу и остаться тут навсегда. Но он был котом в переноске – животным, запертым в четырех углах. Кот сидит, а мир вокруг него меняется. Кот не знает, перемещают ли его из одного места в другое; может, это вообще машина времени, и кадры из прошлого и будущего мелькают перед его тупой усатой мордой. Возможно, его выпустят погулять в ближайшем парке, а может, спустя три тысячи лет.
Так или иначе, кот ничего не решает. Он может только смотреть.
Взирая на мир сквозь сетку переноски – через замершие, истоптанные насекомыми глаза, - Салли ощущал сосущее чувство одиночества. Словно его отделяли от привычной жизни три тысячи лет, а он не мог воспользоваться машиной времени.
* * *
В шесть тридцать (время вечерних новостей, когда мистер Холт выходит в эфир и улыбается всей Америке с экранов) табло опять заработало. Наверное, остальные экраны тоже включились – Салли этого не знал, а проверить не мог.
Белые буквы сначала помигали, хаотично сменяя друг друга – словно тот, кто собирал их в слова, не совсем понимал, как это делается. А потом на табло высветилось:
«СЕГОДНЯ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ПРОИЗОШЛО! НА ЗЕМЛЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!»
Страх, обида и злость расцвели в груди Салли ядовитыми цветами, сплетаясь в мерзкий, дурно пахнущий клубок.
Ничего плохого не произошло? А как же все эти аварии, как же все эти перевернутые поезда, пылающие машины, упавшие самолеты… Как же всё это?
Зато – ни одного теракта.
Зато – ни одной вооруженной акции протеста.
Никто никого не убил.
Никто не прирезал старушку за гроши.
Не разбил голову старому другу.
Не пырнул ножом прохожего в подворотне.
Как там он думал?.. Если волны не смывают города с лица земли, а смерчи в Бирмингеме не уносят людей, человечество все равно ухитряется себе гадить. Ухитрялось. До сего момента.
Добро пожаловать в новый, счастливый мир! Мир, в котором никто никому не навредит. Мир, в котором не нужно раз в несколько часов бегать в туалет, чтобы отлить. Мир, в котором не нужно есть. Не нужно выслушивать мамины занудные наставления. Не нужно вставать в пять тридцать и идти на работу. Не нужно ссориться с любимым человеком из-за пустяков.
Это был новый, стерильный, идеальный мир, в котором люди наконец-то не вредили друг другу.
Салли наполнила эйфория – затопила его от пяток до ушей, чуть изо рта не потекла. Он был счастлив – в эту секунду он был фантастически, неестественно, на грани с истерикой счастлив. Человечеству дали то, чего оно заслуживало. Все люди были драгоценными коллекционными фигурками, которыми владельцы никогда не поиграют, чтобы не оставить на них царапины и следы кожного сала. Они были фарфоровым сервизом, который заботливо обернули бумагой и убрали в коробку, чтобы никогда – никогда! никогда! – не пить из него чай.
Самые ценные вещи мы храним так, словно они испортятся, если использовать их по назначению. Люди предназначены для жизни… Но нечто свыше – не правительство, нет! Не безумные ученые. Не супершпионы с особым токсином. Не-е-ет... Нечто свыше решило, что сохранит людей вот так. Оградит от потрясений, защитит от всего, что могло бы им навредить. Людям больше не нужно переходить дороги, резать овощи острым ножом, калечиться, жить, страдать.
Теперь они заморожены.
Их сердца не бьются.
Их лица чисты.
Сейчас, взобравшись на пик и ощущая себя бесконечно счастливым, Салли вдруг почувствовал, как начинает падать. И пропасть под ним была бесконечной, щедро заполненной страхом, одиночеством и сосущей пустотой – всем тем, что ожидает людей, запертых в своих телах навечно.
Навечно!
Не на день, не на два, даже не на неделю. Салли вдруг отчетливо это понял. Словно раскрыл вселенский заговор, понял замысел сверхсущества, которое «заморозило» мир.
Они все – драгоценные чашки в сервизе…
Они останутся тут навсегда.
* * *
Экраны проработали до глубокой ночи, а потом свет мигнул и отключился.
Везде. Во всем здании вокзала. Во всем пригороде.
Салли наблюдал, как мир погружается во тьму, и пытался высчитать точное время. Милстоунская станция не прекратила вырабатывать электричество – о нет, ядерный реактор не прекратит работать, потому что в нем за сутки выгорело топливо. Тем не менее, оставшись без человеческого контроля, станция переключилась в аварийный режим. А затем окуклилась – укрыла свое пышущее радиацией сердце многими слоями бетона и сверхпрочных металлов. Еще несколько часов город щедро растрачивал свой энергетический ресурс, высасывая последние запасы с аккумуляторных подстанций. А потом свет начал отключаться то тут, то там…
Мир погружался в темноту, а Салли даже не мог закрыть глаза. Не мог поспать. Не мог избавиться от навязчивого мельтешения солнечных зайчиков – они плясали у него прямо в мозгу, а потом сменялись долгими, томными полуснами-полугаллюцинациями, в которых у Салли было шесть рук, и все – с правой стороны тела. Салли ощупывал этими руками сначала себя, а потом – темноту.
Темнота была вязкой на ощупь и никакой на вкус. Только немного кислила, если её прикусить.
* * *
Сирены включились… Салли не знал, когда. По ощущениям – около полуночи, но ощущениям нельзя было верить.
Горестный вой сообщил, что в городе происходит нечто катастрофическое – может, что-то с атомным ядром электростанции, а может… да черт его знает. В Нью-Лондоне могла произойти тысяча вещей. Сирена взвывала медленно, а потом звучала, звучала… звучала так долго, что её звук оставался в ушах, даже когда она замолкала.
Потом она взвывала снова.
Кошмарная бесконечность, полная звука, темноты и вони жженого пластика. Если ад существует, - подумал Салли, - он выглядит именно так.
* * *
К утру он молился уже не о том, чтобы всё прекратилось, а о том, чтобы отключились генераторы, питающие проклятую сирену.
Салли и так не мог спать, а сирена распиливала ему голову звук за звуком.
К середине дня галлюцинации стали насыщеннее, и уже не ограничивались пятнами света. Салли не мог сосредоточиться, не мог обдумывать что-то конкретное – только ощупывал липким взглядом фигуры перед собой и ощущал, как к его коже что-то прикасается. Не к одежде, нет – прямо к коже, минуя жалкие препятствия вроде рубашки и джинсов.
Время шло.
Прикосновения становились глубже.
Салли казалось, что чьи-то пальцы исследуют его мускулы волоконце за волоконцем, перебирая их, как гитарные струны. Это не было больно или неприятно – просто что-то прикасалось сначала к его телу снаружи, а затем – к его телу внутри. Мозгу не хватало тактильных ощущений, и он исторг их из себя, вынуждая Салли мучиться от страшных, муторных ощущений. Ощущения становились тем насыщеннее, чем глубже были касания. Незримые, неосязаемые руки перебирали его органы, отделяли печень от желудка, ощупывали кишку за кишкой. Иногда воображаемые пальцы сжимались, и Салли ощущал, как его органы пульсируют.
Это было… пожалуй, это было приятно. Словно так он чувствовал, что еще живой.
* * *
Третий день был объявлен Днем Знакомств. Салли не мог не галлюцинировать, но мог сосредоточиться на чем-то одном, вынуждая свой мозг на конкретику.
Мужчина с изуродованным лицом был не очень красивым, и чем-то напоминал Салли его самого. Лицо мужчины тоже было сглаженным, лишенным каких-либо выразительных черт. Не считать же выразительной чертой рыхлую кожу справа? Она, эта кожа, выглядела так, словно ребенок раскатал блинчик из бежевого пластилина, а затем погрузил в него пальцы и принялся мять. Кое-где кожа была продавлена, а кое-где – защипнута. Рубцы выглядели равномерно-бежевыми, без келоидной розоватой насыщенности, как бывает у шрамов.
Глаза у мужчины были невероятно спокойные – блекло-серые, такие же точно, как его шевелюра. Немного морщин – строго в соответствии с возрастом. Легкая одутловатость – возможно, по утрам он предпочитал кофе с коньяком простому кофе. А может, у него были проблемы с почками или сахарный диабет.
Подбородок мужчины был прорезан вертикальной складкой – это была даже не ямочка, а четкий раздел. В кармашке его бордового пиджака виднелся крохотный оранжевый платок.
Салли не знал, как зовут мужчину, и решил называть его Джеремией.
Вот так. Теперь у него был новый друг. Привет, Джеремия, - думал он. Как дела, Джеремия? Солнце не напекло макушку? Ох, ты такой шутник… Я бы и рад уйти в тенек, да не выйдет.
Справа от Джеремии возвышался рыжий верзила. Салли плохо видел его лицо, зато в глаза бросилась нашивка на его куртке. Академия береговой охраны. Ого! Впрочем, с одинаковым успехом верзила мог быть как спасателем, так и уборщиком. Жесткая рыжая борода обрамляла его подбородок, виски были сглажены и укорочены, и это было все, что Салли удалось рассмотреть. Только рост… ах, что это был за рост! И мощные плечи – каменно-твердые и слегка опущенные, словно верзила устал.
Салли решил называть его «Боб». Привет, Боб. Как дела, Боб?.. Спаси меня, Боб, ты же спасатель, ты должен уметь спасать людей! Спаси меня от скуки, спаси от страшного, съедающего одиночества. Спаси меня так, чтобы я кричал, чтобы извивался под тобой на простынях, раздвигая ноги, и все внутри меня заходилось от счастья.
Спаси меня.
Спаси! Ведь кроме тебя нас никто не спасет.
… но Боб не хотел его спасать.
Салли подумал: наверняка у него гигантский член. У парней с таким огромным телом просто обязан быть большой член. Он ни разу в жизни не делал минет – как-то не довелось, - но это было бы круто, наверное. Он хотел бы попробовать.
Он много чего хотел сделать в своей жизни. Хотел переспать с мужиком, но это было так неприлично… Божье слово гласило: никакого гей-секса, иначе будешь гореть в аду. Салли оказался слишком мягок и безволен, чтобы возражать Богу.
Он хотел встречаться с Энди, но Сид решила иначе. А Салли оказался слишком мягок и безволен, чтобы сказать ей «нет».
Он хотел стать разработчиком компьютерных игр, но родители – профессор социологии и преподаватель ядерной электротехники, - видели его исключительно в стенах вуза. А Салли оказался слишком мягок и безволен, чтобы настоять на своем.
Всю его жизнь построили за него. Что-то решали, крутили туда-сюда, словно он был конструктором. Словно он был «Лего» – набором из сотен цветных брусочков, которые можно перекладывать и соединять, как тебе захочется. А если наскучит – можно всё развалить и построить заново. Но Салли же не конструктор! Он хотел жить! Он до сих пор этого хочет!
Джеремия смотрел на него осуждающе. Или равнодушно – Салли не мог разобрать. Наверняка у Джеремии не было таких проблем. У него слишком серьезное лицо и слишком волевой подбородок, чтобы за него все решали девушка и родители.
Интересно… - подумал Салли.
Интересно, у него есть семья?
Интересно, я когда-нибудь увижу Сид?
Интересно, Джеремия под одеждой тюфяк, или у него подтянутое сильное тело?
Интересно, та оса, которая ползает по красной желейной конфете, заберется девушке в рот?
Интересно…
* * *
Когда сирена замолчала, Салли думал, что кончит прямо в штаны. Так упоительно хорош стал окружающий мир.
* * *
Четвертый день был самым мучительным.
Салли галлюцинировал почти без остановки. Мясо на нем сгнивало и отваливалось кусками, обнажая скелет, и по этому скелету его гладили, ласкали, ощупывали несуществующие руки. Чтобы хоть немного стабилизировать свое состояние, Салли начал мысленно проговаривать куски своих лекций. Структурная релаксация сверхпроводников – отличная тема для беседы с самим собой. Особенно если ты – чокнутый математик, которому нечем себя занять, кроме воображаемого просовывания воображаемых рук в отверстия между воображаемыми ребрами.
Высокотемпературные проводники расцветали перед ним и радовали глаз слоистой орторомбической структурой. Когда тело проводника переходило из высокотемпературной фазы в низкотемпературную, кислородные вакансии в нем упорядочивались, и это было так предсказуемо… Салли даже фыркнул бы.
Если бы мог.
Куда интереснее дело обстояло с нестехиометрическими системами: все расчеты говорили, что при понижении температур область сверхпроводимости удвоит ряды кислородных вакансий. Но последний эксперимент, проведенный группой ученых из Йеля, гласил: ни хрена подобного.
Салли иногда работал в Йеле. По старой памяти университет Нью-Хейвена сотрудничал с профессорами оттуда, и иногда нью-хейвенцев пускали в лаборатории – поработать с аппаратурой, на которую университет поменьше просто не мог раскошелиться.
Устав от нестехиометрических систем, Салли отдался на растерзание своему мозгу. Его тело нагрелось, словно готово было расплавиться, и Салли вдруг подумал: разгар лета, а пожарно-наблюдательные вышки уже давно не функционируют. Никто не тушит леса, не следит за возгоранием травы… Пожалуй, это объясняло пелену дыма, которую уже вторые сутки порывами ветра гнало через вокзал.
Салли стоял, окруженный солнечным светом, духотой и дымом – словно попал в другой мир. Словно пересекал пустыню, утопая по колено в песке. Словно был погружен в мутную воду, в мочу, черт знает, во что еще – таким вялым, стоячим и невыносимо желтым был мир вокруг него.
Он не хотел тут умереть.
Не так. Не по уши в моче, которая и не моча вовсе, а просто плотный, раскаленный воздух.
* * *
Утром Салли пытался посчитать, которые сутки длилось его одиночное заключение, но ничего не вышло. В его памяти зияли провалы – то тут, то там, - и трудно было сказать, что он запомнил правильно, а что – нет.
Подумав, Салли прекратил считать дни и начал молиться тому парню сверху.
Вряд ли это был Бог. Конечно, Бог мог бы наказать человечество, таким извращенным образом устроив ад на земле… Но, скорей всего, у Бога не хватило бы на это фантазии. Инициировать Всемирный Потоп легче, чем придумать поистине изощренную пытку. Такую, которая длилась бы вечно. Которая отламывала бы от мозгов по кусочку, сперва лишая общения, а потом – возможности двигаться, осязания, сна, трезвости рассудка, связности мышления, даже способности отличать галлюцинации от реальности.
И потому Салли молился не Богу, а тому, по чьей вине тут застрял.
Салли не просил, чтобы мир «разморозился», или чтобы у сероволосого Джеремии с его странным, изуродованным оспой лицом оказался классный член. Не было ни мольбы, ни попыток торговаться, ни проклятий за мучения, которые ему приходилось терпеть.
Салли благодарил.
Благодарил за то, что парень сверху не врубил «заморозку» часом раньше. Салли тогда ел бургер – с котлетой, листом салата и ложкой горчицы вместо соуса. Сейчас он наблюдал за парнем, который в момент «икс» ел бутерброд. Тот едва попадал в поле его зрения, наполовину скрывшись за девушкой с желейной конфетой. Парень пережевывал колбасу и кружок помидора. Рот его был приоткрыт, а пища, судя по всему, уже начала подгнивать, превращаясь в кашу из слюны, пыли и того, из чего там обычно делают колбасу. С самого утра лицо парня облепили мухи, и Салли представил, как они лезут ему в рот, а дальше – в пищевод, в обездвиженный мертвый желудок, полный разлагающейся еды.
К счастью, у самого Салли рот был закрыт. У Джеремии – тоже; Салли не вынес бы такого зрелища, как мушиное пиршество на расстоянии метра от его лица.
* * *
Трудно сказать, было ли это сном или галлюцинацией. Салли сидел рядом с Сид и держал её за руку. У неё были прохладные неподвижные пальцы, а Салли сжимал их такой же прохладной неподвижной ладонью. Они сидели за столом, глядя в окно, а квартира постепенно заполнялась водой. Конечно, в реальности такого не могло случиться – они жили на шестом этаже. Потоп им не грозил, скорей уж – обвал, из-за которого их бы похоронило живьем.
Но сон – или галлюцинация, - функционировал по своим правилам.
Комната заполнялась водой, а Салли смотрел в окно и держал свою девушку за руку. Вот бесцветная жижа дошла до щиколоток; вот – до коленей, облепив его ноги мокрыми, колышущимися в воде штанами. Вот они залиты по пояс. До груди. До ключиц…
Их руки скрылись под водой. Вечный символ любви – пальцы в замке, словно превращенные в мрамор. В какой-то момент Салли даже подумал: хорошо, что мир остановился, когда они просто держались за руки. Было бы неприятно застрять, ну… например, башкой между её раздвинутых ног, навечно прижавшись языком к мягкой, нечувствительной плоти.
Вода прибывала.
Вот она уже по шею. До подбородка. До губ…
Вот она заливается внутрь.
Ничего страшного: они же не дышат, и это совсем не страшно. Вода течет внутри, переливается, словно по трубкам между сообщающимися сосудами, а потом прекращает движение. И Салли понимает: он полон, как пластиковая бутылка с водой. Залит доверху. А вода прибывает…
Вот уже она доходит до глаз. Переступает линию ресниц. Еще пару минут Сид смотрит на него удивленными глазами – ресницы у неё чернильно-черные и густые, причудливо изогнутые, а тонкие брови слегка сдвинуты и приподняты у переносицы. Потом вода поднимается выше уровня глаз, и они оказываются замурованы в ней. Словно в околоплодных водах, к которым вернулись спустя столько лет жизни.
Когда Салли просыпается, он отчетливо чувствует свою правую руку – не ту, что задрана перед лицом, а ту, которая в кармане штанов. Кончики пальцев дотрагиваются до пластиковой поверхности пропуска, а под указательным чувствуется жетончик метро. Вот почему его сон-галлюцинация был про потоп.
Салли представил, что было бы, окажись он в час «икс» не на вокзале, а где-нибудь в метро. Протолкни он жетончик в прорезь турникета и опустись по эскалаторам на десятки метров под землю.
В тот момент, как в городе начало отключаться электричество, отключились и дренажные системы, откачивающие из тоннелей воду. В городе вообще много что отключилось – гидравлика, предохранители, очистные системы, канализационные насосы… Метро начало заполняться водой почти сразу.
Через несколько дней вода дойдет людям до пояса. А потом – выше. А потом – похоронит их живьем в десятках метров от поверхности.
Салли обсыпало морозом. Если бы он мог – сжал бы жетончик в кулаке, как талисман. Словно его нынешняя судьба была намного лучше, чем быть утопленным в сточных водах.
* * *
Роберт Бартоломью Салливан, - вот так.
Роберт Бартоломью Салливан, двадцать семь лет. Сын Розали и Уилфреда Салливанов. Переехал из Саффолка в Нью-Лондон в возрасте девятнадцати лет. В текущий момент – преподаватель в Университете Нью-Хейвена, младший научный сотрудник, оператор компьютерного кластера, моделирующего волны пластической деформации в сверхпластических средах. Если повезет, его работа перевернет сферу формовки листовых заготовок вверх тормашками.
Не женат. Состоит в длительных отношениях. В наличии – аллергия на чернику, клюкву и кроличью шерсть. Зубы мудрости на верхней челюсти удалены хирургически. Прооперирован с аппендицитом в возрасте двадцати трех лет. Не курит. Не злоупотребляет спиртным. Слабоволен. Нерешителен. Пассивен в отношениях со сверстниками. Бисексуален, проявляет большую тягу к представителям мужского пола.
Вот так.
Это он еще не забыл. Если повторять раз в пять минут, то, возможно, и не забудет.
Он – Роберт Бартоломью Салливан. Двадцать семь лет. Сын Розали и Уилфреда Салливанов. Переехал из Саффолка в Нью-Лондон в возрасте девятнадцати лет…
* * *
Щемящее чувство одиночества, раздувающее изнутри грудную клетку, не шло ни в какое сравнение с тем, какие физические муки Салли переживал в последние несколько часов.
Его зубы словно распирали рот изнутри.
Их было так много, что они оттопыривали губы и лезли наружу.
Салли захныкал, и отчетливо услышал это хныканье – так, словно его тело вновь было способно воспроизводить звуки. Ему казалось, что зубы вот-вот выдавит изнутри какая-то сила. И они прыснут во все стороны, как кусочки стекла, как конфетки «Тик-Так», рассыпанные из коробки.
Разумеется, в реальности ничего такого не было. Но какое дело до реальности было его галлюцинирующему мозгу?
* * *
Смех, смех, смех, это так смешно – стоять, это так смешно, так смешно думать об этом, словно тебе щекочут мозг, словно ты весь подергиваешься, словно ты в судорогах от смеха, и тебе так весело, как не было ни разу в жизни.
Ты не спишь, ты разучился спать, ты как будто бы живой, а может, и нет.
Тебе так смешно, что ты бы и не заметил, если бы умер сейчас.
* * *
Когда Салли открыл глаза – где-то внутри; ведь снаружи он, как известно, не мог глаза ни открыть, ни закрыть, - волна леса за железнодорожными путями полыхала.
А может, ему это привиделось.
Он не знал.
Честно говоря, ему сейчас было не до того.
Его тело деформировалось, оно было кусочком
бетона, кусочком
вокзала,
оно было единым целым
со всеми человеческими статуями, которые торчали то там,
то сям.
Рамки его личности стирались
и
наверное
это было
хо
хо
х
. . .
. . .
. . .
Он сошел с ума на шестой день.
Он говорил с Богом на пятый.
Время пошло вспять.
. . .
. . .
. . .
Роберт Бартоломью Салливан.
Черт знает, как этот парень выглядел.
Когда Салли очнулся, он не помнил себя, а помнил только рыжего верзилу Боба и мышасто-серого, уродливого лицом Джеремию. Еще он помнил девушку с красной конфетой, но её на платформе уже не было. Была какая-то девушка без конфеты. Но это, наверное, была не она.
А может, он всех их придумал, и на самом деле вокзал пуст.
Наверное, себя Салли тоже придумал.
Он пытался рассмотреть свое лицо в циферблате часов – его рука была довольно удачно задрана. К сожалению, в циферблате отражался только безумный серый глаз, и ничего больше. Даже бровь не уместилась.
Салли пытался вспомнить, как он выглядит, и в голову приходило что-то мышастое, как волосы Джеремии. Они, наверное, были чем-то похожи. Просто Салли не помнил, чем.
* * *
Он не знал, который день после часа «икс» стал переломным моментом. Просто мир «до» был кошмарен. Мир «до» был пыткой – самым страшным, что мог пережить человек. А мир «после»…
Салли погрузился в него, как в облако сладкой ваты.
Он плохо помнил, где находится. Стоило солнцу уйти за горизонт, как весь мир пропадал, словно его и не было. Луна шла на убыль, а затем исчезла вовсе, и ночь была чернильно-черной, ласково покачивающей Салли на волнах пустоты.
Каждый раз, когда солнце вставало (сперва – показывало малиновый краешек, а потом лениво отклеивалось от горизонта и подскакивало вверх), Салли радовался тому, что видел. Каждому дереву, выныривающему из темноты. Каждому человеку, чье лицо для него значило не больше, чем разбросанные между шпалами куски щебня. Каждой птице, которая прыгала под ногами или топталась по его задранной руке. Кто-то проковырял в рубашке Салли огромную дыру, но он не помнил, кто.
Он узнавал этот мир заново. День за днем.
Это было…
Это было прекрасно.
Жаль только, разодранный рукав пропитался кровью, и она капала оттуда – розовая и вязкая, как малиновый джем.
* * *
Салли был голым. Обнаженным. Ему не было стыдно; наверное, слово «стыд» вычеркнули из его головы вместе со словами «страх» и «тревожность». Он был голым в своей голове. Он занимался любовью со всем миром.
Он был девственником.
Он был шлюхой.
Он был последним представителем человеческой расы, и предлагал сверхразуму себя поиметь.
Салли знал: сверхразум не хотел причинить ему вреда. Он просто не знал, не понимал, что делает людям плохо! Он решил: чтобы в мире не случалось ничего дурного, в мире не должно случаться вообще ничего.
Чтобы люди были счастливы, их нужно заморозить, оградить от всего – от болячек, ссор и смертей. От падающих самолетов и обесценивающегося доллара, от нужды в еде, квартплаты, ипотечного кредитования и миллионов, миллиардов вещей, которые их расстраивают.
И человечество законсервировали.
Люди остались в тех же позах, что были, в том же сознании, что были, но без возможности двигаться. Чтобы сами ничем себе не вредили, глупые дурашки. Их тела были стабильны, их сердца больше не бились, им не нужна была пища. Они теперь – как лепестки мяты, замороженные навечно в кубиках льда.
Мир летнего сердцестояния… Не ад, как думал Салли по глупости, а райские кущи.
Вас больше ничто не побеспокоит.
В мире всё прекрасно.
Будьте счастливы!
* * *
Счастливы…
* * *
Днем прошел дождь.
Он не нарушил потрясающего душевного равновесия, которое Салли приобрел в последние дни. Он дышал, не дыша. Он был един со всеми, кто находился на платформе. Их вены соединялись друг с другом, и жизненная энергия тоже была общей – она циркулировала из тела в тело, и Салли ощущал её так полно…
Так, словно это слияние было величайшим из благ.
Дождь прошел, но мир оставался горячим, наполненным чем-то помимо солнца. Листья на деревьях скручивались и темнели, словно их поместили в микроволновку. Птицы больше не орали, а несколько тушек были разбросаны прямо по платформе. Пташки выглядели потрепанно – измазанные в крови, они какое-то время после падения еще шевелились, а потом – нет.
На платформу снова приходила кошка. А еще – несколько енотов, и все они выглядели одинаково паршиво. Шерсть вылезала клочьями, а кожа болезненно розовела, словно ее обожгли.
Кошка потрепала упавшую птицу, а потом издохла, закаменев маленьким лысым тельцем. Еноты пытались обгладывать людям щиколотки, но не справлялись и отрыгивали съеденное мясо и кровь. Кровь, наверное, была их собственной.
Потом животные ушли.
* * *
Станция была мертвой.
Все побережье было мертвым.
Раньше Салли не думал об этом. В Милстоуне три энергоблока, и каждый из них поставлял десятки стержней с отработанным ядерным материалом. Да, внутренности энергоблоков были заблокированы. Да, их окружили бетоном, словно яйца скорлупой. Но отработанные стержни, фонящие в двадцать раз сильнее, чем до помещения в реактор, сейчас охлаждались в гигантских бассейнах. Лет пять на один охлаждающий цикл – как вам такое?
Лет пять, а потом стержни можно будет переработать и похоронить в сотне метров под землей. Пять лет под тщательным присмотром, при постоянной смене воды и работе охлаждающих систем.
По примерным расчетам, Милстоуну понадобилось бы двенадцать дней, чтобы испарить всю воду в бассейнах. Значит, прошло уже больше двенадцати дней…
Должно быть, радиационный фон в Нью-Лондоне сейчас выше, чем на Фукусиме в далеком две тысячи одиннадцатом. Но на Фукусиме с радиацией хотя бы боролись. А в Нью-Лондоне – нет.
Теперь Салли знал: сверхразум хорошо позаботился об их телах. На их коже не было ни язв, ни ожогов, в их желудках и ртах не открывались кровоточащие раны, и, кажется, ни радиация, ни жар, ни дождь, ни одна из стихий теперь не могли им навредить.
Они стали бессмертными.
И Салли вдруг понял…
* * *
… это же логично.
Он же думал об этом.
Человечество себе вредит.
Человечеству плохо.
Человечество себя убивает. Его нужно спасти.
И потому он остановил свое сердце, а вместе с ним – сердца всего человечества. Он должен был уберечь этот мир. Он заботливо обернул его бумагой и убрал в коробку, чтобы больше никогда не пить из него чай. Человечество – величайшая драгоценность, причудливый кристалл, который Салли готов был спрятать в ладонях. А если это не поможет – вскрыть себе живот и поместить его туда.
В тепло.
В абсолютный комфорт.
Теперь в этом мире не будет терактов.
Не будет убийств.
НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ.
Это тяжкая ноша, и Салли с ней едва справляется… Но он сильный! Он будет держать этот мир на своих плечах. До тех пор, пока его сердце не бьется, он будет хранителем, и стражем, и отцом, и сыном, и вены его, полные жизни, будут питать все живое. И глаза его, полные смерти, будут беречь этот мир от гниения.
Салли открыл себе истину.
Обрел цель существования, о которой раньше и мечтать не мог.
…
А потом.
…
Все закончилось.
…
…
…
…
…
Наверное, это было не очень хорошо. То, что Салли вдруг почувствовал.
Эти странные сокращения в его теле… будто все органы сотрясало спазмами. Его ноги подломились, и Салли упал, а вместе с ним упали люди, пойманные в ловушку на пригородном вокзале Нью-Лондона.
Салли схватился за грудь, думая, что умирает.
Ему понадобилось почти три минуты, чтобы понять: то, что он сейчас чувствует – это биение сердца и движение легких. То, чего в его жизни не было так долго… так долго! Он не помнил, сколько времени прошло.
Его сердце сокращалось, как безумное, причиняя артериям боль. Сначала Салли распахнул глаза, а затем мир вокруг него ожил и пустился вскачь.
Мужчина с лицом, изрытым оспой, упал на бок и больше не двигался. Его глаза были распахнуты и отражали пустоту.
Рыжий верзила рухнул на колени, уперся ладонями в бетонный пол, а потом с размаху ударился об него головой. И еще. И снова. Он бился лбом о бетон, раскраивая себе череп, а Салли смотрел на него, распахнув рот, и молчал.
Кто-то визжал.
Кого-то тошнило.
Кто-то причитал: «о, моя рука, о боже, моя рука, моя рука, как же так, моя рука, о, боже…»
Салли смотрел перед собой и чувствовал, как внутри вздымается волна смертельного страха. Он должен был держать этот мир на своих плечах. Он был основой всего – указующей дланью, молчанием сердца! Он берег этот мир!
Он не смог!
Не смог его уберечь!
Мир ожил, и теперь всё человечество по его вине корчилось в муках.
Осознав это, Салли опустил голову на руки и страшно, надрывно закричал.
* * *
Он кричал несколько часов.
Сперва – как строитель, на ногу которому уронили бетонную плиту. А потом в его голосе осталось мало человеческого.
Салли сидел, покачиваясь из стороны в сторону, пропитанная кровью рубашка липла к его руке, а он кричал, зажмурившись, содрогаемый рыданиями и абсолютно бессильный.
Крик закончился, когда он сорвал себе горло.
* * *
Над миром расцветал закат.
ЭПИЛОГ
… конечно же, всё было совсем не как в фильмах.
Не было ни спасательных операций, ни вывода пострадавших из зоны радиационной угрозы… Ничего такого.
Позже, когда Салли двигался в сторону Саффолка с группой беженцев, он много размышлял о причинах произошедшего. Пытался откинуть весь тот галлюциногенный бред, который преследовал его одиннадцать дней из тех восемнадцати, что он был заперт в себе.
Если вычеркнуть откровенно глупые мысли – вроде Кары Господней или оружия массового поражения, - оставалась еще одна, не менее фантастическая. Раньше Салли ее уже рассматривал, и теперь возвращался к ней осторожно, шажок за шажком, словно погружался в ледяное горное озеро.
Итак: некий сверхразум пытался спасти человечество. Был ли он живым или искусственным, прилетел ли со звезд, или развился в недрах Земли, было не так уж важно. Важно было то, что сверхразум ничего не знал о людях. Потому его эксперимент не увенчался успехом.
Похоже, в последние дни их жизненные показатели обвалились, как цены в Черную пятницу. Человечество не стало счастливым – оно стало безумным, и до сверхсознания дошло, что оно делает что-то не так. Тогда оно обиделось и ушло, бросив неблагодарных людишек разгребать свои проблемы.
А проблемы-то и разгребать было некому…
Не было больше ни суровых военных, ни чутких врачей. Не было эвакуации пострадавших из зоны катастрофы, потому что зоной катастрофы был весь мир. Каждого человека на Земле искалечило в равной мере.
Конечно, нашлась горстка просветленных, которые не тронулись умом. Но большинству хватило и нескольких дней – не то что пары недель. Кто-то упал замертво сразу после «разморозки». Кто-то сошел с ума. Или разучился есть. Или потерял навыки мелкой моторики, откатившись до уровня ребенка-грудничка. Из выживших многие потом кончали с собой – когда группа Салли покидала город, в ней было в два раза больше людей, чем сейчас.
Зато у Салли… ну, пожалуй, у него всё было неплохо.
Он мог нормально есть, не выблевывая пищу, потому что перистальтика кишечника вдруг остановилась. Частая проблема для выживших, - Салли она почему-то обошла стороной.
Он успел уйти из города раньше, чем поглощенная его телом доза радиации стала критической.
Он мог связно мыслить. Теперь – мог.
Мог даже говорить вслух.
У него был секс – довольно регулярный... он не помнил, с кем. Просто ложился животом на спальный мешок, зажав в кулаке уголок подушки, и смотрел перед собой ровно столько, сколько длился процесс.
Он занимался сексом, не занимаясь им. Ему было не то чтобы неприятно, он просто был... немножко пустой. Выжженный изнутри. Радиацией, солнцем и восемнадцатью сутками персонального ада.
Иногда – когда рядом никого не было, - Салли садился на землю, скрещивал ноги перед собой и клал ладонь в центр груди. Потом он наклонял голову и слушал свое сердце. Его раздражало биение – оно было лишним, каким-то даже… смущающим. Таким ненужным, что его хотелось отключить. Салли опускал ресницы и сосредотачивался, пытаясь силой воли остановить свое сердце.
Совсем как тогда.
Конечно, сама мысль о том, что это он «заморозил» всех людей на Земле, была глупой… но почему-то Салли не мог её отпустить. Словно с таким бэкграундом история восемнадцатидневного апокалипсиса приобретала смысл.
И потому Салли наклонял голову, прижимая руку к груди, замирал и запрещал себе дышать.
Он ждал.
* * *
Салли знал: мир летнего сердцестояния вновь распахнет перед ним двери.



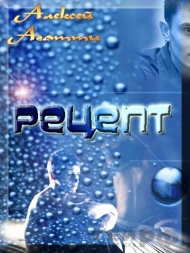


10 комментариев