Сергей Хазов-Кассиа
Другое детство
Аннотация
Это роман о гомосексуальном подростке, взрослеющем в условиях непонимания близких, одиночества и невозможности поделиться с кем бы то ни было своими переживаниями. Мы наблюдаем за формированием его характера, начиная с восьмилетнего возраста и заканчивая выпускным классом. Трудности взаимоотношений с матерью и друзьями, первая любовь - обычные подростковые проблемы осложняются его непохожестью на других. Ему придется многим пожертвовать, прежде чем получится вырваться из узкого ленинградского социума к другой жизни, в которой есть надежда на понимание.
Вообще-то, даже если учесть, что лето закончилось, первое сентября — не такой уж плохой день. Идёшь в школу, НО учиться не нужно. Несёшь огромный букет гладиолусов, все на тебя смотрят и умиляются. Потом постоишь немного на линейке и возвращаешься домой, где мама с бабулей наготовили салатов, пожарили куру, купили лимонада и пирожных. Если не думать о том, что завтра снова в школу, но уже взаправду, можно оставаться в хорошем настроении до самого вечера.
Став старше, я перестал ходить в школу первого сентября. Гладиолусы куда-то исчезли, лимонад и пирожные меня не интересовали, а салаты и курица вызывали изжогу при одной лишь мысли о семейном торжестве. Но поначалу это был всамделишный праздник.
Если представить себе дремучий лес многоэтажек, в котором по велению городского архитектора появилась поляна, то на такой вот поляне и стояла наша школа. Из окон Тёти Лены она походила на букву Н, одна перекладина была чуть ниже — меньше этажей. В низкой части находились фойе, столовка, спортзал и актовый зал, а в высокой — классы. Торжественные линейки проводили в спортзале. По такому случаю в нём открывалась маленькая дверь, ведущая прямо ни улицу, позволяя миновать раздевалки, откуда не очень-то Приятно пахло.
Самое главное было улизнуть с линейки первым, особенно если пришёл без родителей. И тем более если Пень, Миха и остальная компания тоже без родственников, а эти никогда никого не приводили даже на школьные спектакли. Выскользнув из сине-бело-коричневой толпы, можно незаметно обогнуть угол школы, пробежать до ближайших высоток и потом уже спокойно идти домой. Получался небольшой крюк, но всё лучше, чем пересекать футбольное поле, где ты как на ладони маячишь телебашней — каким бы маленьким ни хотел казаться и как бы быстро ни шёл.
Это был непростой манёвр. Нужно пробиться к классной сквозь толпу и вручить ей букет, что не всегда получалось сделать быстро. Вернее, никогда не получалось, потому что классная всё с кем-то говорила, жеманно улыбалась, принимала другие цветы и как нарочно даже не смотрела на мои гладиолусы. И когда, наконец, я дожидался своей очереди, шанс незаметно улизнуть был упущен.
Так произошло и на этот раз. Разделавшись с букетом, я прокрался к выходу, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Двери школы были открыты, и терпкий осенний воздух, какой бывает в нашем городе только в начале сентября, выплеснул в лицо запах умирающих листьев и предстоящих дождей. Ещё стояло лето, но оно шептало, что нам всем недолго осталось греться в тёплых лучах балтийского солнца и скоро придётся надеть куртки, достать зонтики и надолго забыть о каникулах.
Я вдохнул летне-осенний воздух и, втянув голову в плечи, направился к тому углу школы, где летом старшеклассники играли в теннис, колотя мячом о стену, за которой открывался путь к свободе. Но, обогнув спасительный угол, я почувствовал толчок в правое плечо. Я не обернулся, не сомневаясь — толкнувший стоит слева. Я уже изучил все их «шутки» и знал: главное — не реагировать. Мне в принципе было даже не интересно, кому из них сегодня стало скучно и кто решил, что поиздеваться надо мной — лучшее развлечение. Выбор, впрочем, невелик. Меня ещё раз ударили и засмеялись. Пень. И Миха с Длинным из «В» класса. Я продолжал идти как ни в чём не бывало. Вернее, старался идти: это не просто, когда тебя то и дело подпихивают.
— Эй, мудик, ты куда направился?
— Слышь, Миха, откуда он притащил такие огромные гладиолусы выше него самого?
— А у него мамочка их выращивает в ванной, поэтому мудик так воняет, правда, мудик?
Мудик. Что-то новое. Шпендик, шибздик, сифа, говник (от говна на палке, конечно) — это всё мы проходили. Видимо, за лето мои одноклассники набрались новых вариантов, к которым нужно привыкать. Непонятно только, откуда это взялось. Соседка по даче как-то кричала своему мужу: «Хозяйство вести — не мудями трясти!» Я тогда так й не выяснил, что это такое — муди. Может, сиськи? Сосед был очень толстым. Но у меня-то никаких сисек нет…
Тут Миха толкнул особенно сильно, я споткнулся о поребрик и рухнул в траву. Дождей давно не было, и газоны стояли сухие. А жаль. Иначе все увидели бы меня по уши в грязи и отвязались. Но раз всё относительно чисто, я не заслуживал поблажек.
— Слышь, ты, муда, хоть бы к школе помылся, а то даже училка после линейки сказала, воняет, мол, как в тубзике.
Это была неправда, конечно, — я мылся вчера перед сном, как и всегда перед первым сентября.
— Может, нам его помыть, ребзя, чтобы в школу ходить нормально?
Дело принимало опасный оборот. Миха и Длинный из «В» схватили меня подмышки, Пень — за ноги, и поволокли к канаве, огибавшей футбольное поле. Я заметил, что у меня порвалась брючина на коленке, вот мама будет теперь ругаться. Новые брюки ведь, только купили.
Я делал вид, что сопротивляюсь, хотя знал — бесполезно. Я и с одним-то из них не справился бы, что уж говорить, когда их трое. Меня донесли до канавы и под весёлый гогот бросили в неё. Я упал спиной на что-то твёрдое, наверное бутылку, ноги увязли в осенней слизи из размокших сигаретных пачек, прошлогодних листьев и прочего мусора. Попытался подняться на локтях, но они залипли в грязи, это ещё больше раззадорило всю компанию. Наконец, им наскучило, и они ушли, смеясь над тем, как смешно я пытался выкарабкаться из своей «ванны».
Выбравшись из канавы, я побрёл в сторону дома короткой дорогой через футбольное поле. Теперь бояться было нечего. Даже если мне встретятся старшеклассники, которые захотят надо мной посмеяться, — плевать, никто не сможет сделать больше, чем вывалять меня в канаве первого сентября.
Самое неприятное ждало впереди. Сейчас мама всплеснёт руками, вскрикнет и начнёт причитать. Это всё я тоже знал наизусть. «Господи, да что ж такое-то? Да сколько же можно, ты что, издеваешься надо мной? (Тут я никогда не мог понять, к кому она обращается — ко мне или к богу.) Что же за наказание такое? Только купили новые брюки, я деньги, что ли, печатаю, чтобы каждый день форму покупать? Нет, ну это же надо! Ты специально, что ли, делаешь это всё? Специально, я тебя спрашиваю?
Отвечай, когда с тобой разговаривают, смотри мне в глаза. Зачем ты это сделал? Боже, когда закончится это всё, невозможно же так! У всех дети как дети, а у меня одной такое наказание». И так далее.
Хорошо ещё, если без затрещин, хотя без них, наверное, не обойдётся. А потом заставят стирать и гладить испачканную форму, не дадут торта, и всё это время мама будет ходить по квартире и ругаться. Вечером, конечно, поуспокоится, а бабуля даст-таки вкусный кусочек перед сном. праздника не будет.
Можно, правда, проскользнуть невидимкой через коридор в свою комнату и быстро переодеться. Позже мама всё равно найдёт грязную и порванную форму, но уже после обеда. Торт будет съеден, и до конца дня останется совсем немного. Но это если повезёт, и мама с бабулей стряпают на кухне и не услышат, как откроется входная дверь.
Разрабатывая план незаметного проникновения, я дошёл до дома, поднялся, осторожно открыл дверь квартиры и оказался в коридоре. В нос ударил запах жареной куры. Я подумал, что это почти как день рождения или Новый год, только без подарков. Ну, если не считать подарком новый портфель, без которого было не обойтись и который мне вовсе не нравился. Слишком большой: такой в пору профессору в университете или доктору в больнице.
А красный кожаный пенал так и не купили, придётся ходить со старым деревянным. Впрочем, может, оно и к лучшему: всё равно у меня нет десятка разноцветных ручек и фломастеров, чтобы разложить их по всем отделениям. В деревянный положишь одну ручку и пару карандашей — и он уже полон.
В коридоре оказалось пусто. Повезло. Надо теперь быть тихим и быстрым.
Как придворные в покоях спящего короля. Я осторожно снял ботинки и, стараясь ступать бесшумно, пошёл к своей комнате.
«Артём», — окликнула мама из залы своим показательно-любящим голосом.
Значит, у нас гости.
У мамы было несколько интонаций для моего имени. Первая — раздражённо-наказательная. Это если я забывал поднять стульчак, и она звала меня, чтобы указать на всю глубину моего падения, упрекнуть в негигиеничности и попросить вымыть туалет. При звуках этого её голоса никогда нельзя быть уверенным, что именно случилось, — если только я сам заранее не знал, в чем виноват.
Вторая — вопросительно-требовательная. Если нужно вынести мусор или почистить картошку для супа. Чаще всего такая интонация означала одно: надо немедленно всё бросить й Спешить помогать маме. Здесь самое неприятное заключалось в невозможности предугадать, сколько времени потребует выполнение её просьбы и когда я вернусь к игрушкам или урокам.
Она умела по-разному звать меня — к обеденному столу или если я слишком далеко Отходил от неё в магазине.
Существовала ещё одна интонация, которая мне доставалась нечасто, заставлявшая по-особенному сжиматься сердце так, что хотелось зарыться маме в подмышку и там заплакать. Её следовало заслужить — например, смастерить что-нибудь на уроках труда. Выпилить деревянное сердце из фанеры и выжечь на нём специальным прибором «С днём рождения, мама». И тогда она могла неожиданно ласково посмотреть и произнести моё имя с этой интонацией. Но мы уже давно ничего такого в школе не делали, так что повода для этой доброты не было.
Показательно-любящий тон стопроцентно означал — у нас гости.
Меня не очень прельщала перспектива предстать перед гостями в растерзанном виде, хотя в этом была и своя положительная сторона — по крайней мере, затрещину получу не сейчас. Дорога в большую комнату показалась бесконечной. Ноги налились такой тяжестью, что я их с трудом передвигал, думая, что следующий шаг станет последним, и я вот-вот упаду на каменные плиты замка. Но нет, надо идти — в большой зале ждала судебная комиссия, которая вынесет решение по делу о моём падении. Ещё теплилась надежда, что про меня забудут и удастся незаметно свернуть в мою комнату и быстро переодеться, — но она вдребезги разлетелась от нового окрика: «Артём, ну где ты там?!»
Я вошёл — и оторопел. За столом с бабулей и мамой сидел мужчина. Само по себе обстоятельство это не было удивительным. Мужчины появлялись в нашем доме не так уж редко. Одни приходили, исчезали, потом снова возвращались. Другие ненадолго задерживались, затем уходили в никуда.
Они были разными, но все казались похожими друг на друга, словно братья.
При знакомстве со мной пытались поддержать беседу, задавали одни и те же вопросы: как дела в школе, много ли друзей, хорошие ли оценки и кем я хочу стать. Приходилось бурчать под нос, что дела нормально, друзей нет, спасибо, четвёрки, и я не знаю, кем хочу стать. Я вёл себя не слишком любезно, чем, впрочем, подтверждал репутацию робкого мальчика, предпочитающего одиночество. Обычно после первого разговора они ограничивались рукопожатием и вопросом «как дела?», который не предполагал ответа.
В общем, моё сегодняшнее удивление объяснялось не тем, что первого сентября у нас в гостях был новый мужчина, а тем, что он сильно отличался от остальных. Он был большим. Похожим на строителя. Или нет, на боксёра. Из-под водолазки выпирали огромные мускулы, на широких плечах сидела большая голова с коротко стриженными русыми волосами. Шея была такой массивной, что, наверное, потребовалось бы пять моих ладоней, чтобы её охватить. Черты лица тоже были какими-то объёмными, широкими, как у русского богатыря с картины Васнецова из учебника истории. Широко посаженные голубые глаза, большой нос, полные губы — всё создавало образ открытый и притягательный.
Он расположился на трёх четвертях стола, где могли поместиться две такие семьи, как наша, заполнив собой эту большую, такую маленькую для него комнату, а также всю квартиру. Локти на столе, голова повёрнута в мою сторону.
Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и как будто готов был рассмеяться, потому что я глядел на него с нескрываемым удивлением. Я забыл о порванной брючине и грязной форме.
«Что опять случилось?» — мой вид был настолько ужасающим, что мама с трудом справлялась с раздражением, несмотря на присутствие гостя.
«Упал», — пробормотал я. «Артём, иди переоденься, и за стол» — снова показательно-любящий тон, в котором только я мог уловить грядущую бурю.
Я ушёл к себе. В своей комнате я чувствовал какую-то защищённость, даже если учесть, что двери всегда были открыты, да и мама могла прийти в любой момент. Это была небольшая длинная узкая комната, размеры которой сильно сокращала стоявшая в ней мебель. Дверь находилась в торце прямоугольника, напротив окна, выходившего на большой проспект, по нему днём и ночью громыхали трамваи. К ним, впрочем, все привыкли и не обращали внимания. Рядом с входом стоял коричневый платяной шкаф, где лежало бельё и моя одежда, а сверху — игрушки, книги и ещё масса вещей, которые никто не доставал уже долгие годы. Между шкафом и окном образовывался узкий проход, с одной его стороны — софа, а с другой — секретер. Это была странная мебель, такую я ни у кого больше не видел.
Софа представляла собой конструкцию из фанеры с выдвижным ящиком и шестью продавленными от времени зелёными подушками: три лежали плашмя и три прислонялись к стене. Она могла раскладываться и становилась достаточно широкой, но тогда загромождала всю комнату.
Секретер был тоже большой, основную его часть занимали книжные полки с расставленными по цвету и размеру книгами. С одной стороны откидывалась доска, превращавшаяся в длинный и очень удобный письменный стол. Внутри имелись три полки с аккуратно разложенными тетрадями и учебниками. На полу лежала красная ковровая дорожка с тёмно-зелёными полосками по краям, ковёр висел и над софой. На окне стояли цветы, а единственный незанятый мебелью участок стены был оклеен фотообоями с изображением реки, протекавшей по осеннему сосновому бору.
Эта комната навсегда осталась такой, даже спустя многие годы. Никогда в ней не появятся ни плакаты с рок-звёздами, ни теннисные ракетки, ни велосипед, ничто другое, что могло бы сообщить: здесь живёт ребёнок или подросток. Но ещё было далеко до тех времён, когда она начала вызывать раздражение и, более того, ненависть. Сейчас она моя, пусть даже всё, отличавшее её от других комнат, запрятано по полкам и углам и хранится в строжайшем секрете от взрослых.
Переодеваться я не спешил. С одной стороны, хорошо, что мы обедаем не одни, не исключено, что тогда мне и вовсе удастся избежать взбучки.
Особенно если Боксёр останется на ночь. Тогда мама немного поругает меня завтра, но это совсем другое дело. Ну и брючину придётся зашить, иначе не в чем идти в школу. Но и уйди он вечером — обычного скандала уже не получится. С другой стороны, я чувствовал: к вечным темам про школьных друзей и оценки прибавятся ещё и расспросы о сегодняшнем происшествии, если, конечно, он не поверит в историю о падении.
Я растянул время, насколько возможно, вернулся в большую комнату и сел за стол. «Артём, это дядя Саша», — сказала мама. Дядя Саша протянул огромную руку, моя ладонь скрылась в ней, как в пещере. Хорошо ещё, что в отличие от других маминых друзей он не стал жать мне руку до хруста, а бережно подержал её пару секунд и отпустил. Мама щебетала что-то по поводу еды — пора, мол, за неё приниматься, иначе кура совсем остынет.
Весь обед я просидел молча. Как ни странно, вопросов про оценки не последовало. Боксёр иногда посматривал на меня и улыбался то ли мне, то ли маме, предлагавшей ему ещё салата. Бабуля сидела с явно недовольным видом, вряд ли вызванным моей испачканной формой, что не мешало ей играть роль первой хозяйки.
— Доча, ну ты вот ещё винегрета Александру не предложила.
— Мама, я всё положила, Саша просто уже не хочет винегрета.
— Исключительно ради вас, Софья Константиновна! Впрочем, ей надо было уезжать на дачу на пятичасовой электричке.
Посреди обеда Боксёр вышел в коридор и вернулся через пару минут с какой-то коричневой коробкой в руках. Он раскрыл чехол и вынул из него настоящий фотоаппарат. Я видел такой только в кино, ни у кого из моих друзей фотоаппаратов отродясь не бывало.
— Ну что, семейный портрет на память? — весело спросил он.
Мы с мамой сели напротив фотообоев, бабуля участвовать отказалась: «Ну ладно, меня-то что снимать, старую калошу». Он сделал несколько снимков нас с мамой вместе, потом меня одного, но фотосессия на этом не закончилась — после обеда мама хотела ещё пофотографироваться в разных платьях.
Я решил быть послушным ребёнком и не убегать из-за стола сразу, маме это никогда не нравилось. Подумал, что таким образом будет легче получить индульгенцию за форму, хотя знал — план может и не сработать. Всё теперь зависело от Боксёра и его фотоаппарата.
После обеда мама с бабулей отнесли грязную посуду на кухню и занялись пирогом (тоже редкий случай, обычно мама покупала торт или пирожные в универсаме). Я остался с Боксёром наедине и собирался уже соскользнуть под стол, чтобы незаметно уйти, но тут он огорошил вопросом: — Из-за чего подрался-то, команчи?
Я замер. Во-первых, никто меня раньше не называл «команчей», к тому же я слабо представлял, что это такое. Что-то индейское. Но интриги при французском королевском дворе интересовали меня куда больше, чем войны с бледнолицыми. А самое главное — никто никогда не делал предположений, что я с кем-то подрался. Более того, я не дрался ни разу в жизни и даже не мог представить себя в такой роли. Это был вопрос про какого-то другого мальчика. В общем, я растерялся и не знал, как реагировать. Мой собственный ответ удивил меня ещё больше. Ни с того ни с сего я выложил незнакомцу правду:
— Я не подрался, меня побили.
— Почему?
— Потому что я самый слабый в классе.
— Ну ты, брат, даёшь. Почему же самый слабый? Не можешь дать им сдачи?
Надо с ними разобраться хорошенько.
Это было уже слишком. Я представил себе, как Боксёр разберётся с Михой и Пнём, и чем потом всё для меня обернётся. Самое лучшее сейчас просто убежать в комнату, но я не мог пошевелиться, загипнотизированный его прямым взглядом.
— Хочешь, схожу завтра с тобой в школу, поговорю с ними?
— Нет.
— Боишься их?
— Нет.
— А что же тогда?
— Не знаю. Не нужно никуда ходить.
— Ну ладно, посмотрим, что можно сделать.
— А когда будут готовы фотографии? — спросил я, стараясь перевести разговор на другую тему.
— Нужно их проявить. Хочешь, вместе займёмся? Только надо реактивы и лампу принести.
Ничего себе предложение! Конечно, я хотел проявлять фотографии вместе с ним! Было в этом даже что-то шпионское и потому захватывающее.
— Ну, давай на выходных попробуем, у меня раньше времени не будет.
В комнату вернулась мама с пирогом и чайным сервизом. К школе больше не возвращались, но я чувствовал: тема не закрыта. Во мне была надежда, что обещание «что-нибудь сделать» только дань вежливости, но где-то глубоко в душе догадывался — Боксёр говорил искренно.
Вечером я лежал на большой кровати с балдахином в неприступной башне своего замка, вдали от утомительных церемоний. Я был молодой королевой, которой удалось сбежать от придворных. Я ни в ком не нуждался и сам никому не был нужен. Обо мне все забыли, потому что я сам так захотел.
За окном шумел осенний лес, сентябрьский ветер яростно срывал с деревьев ещё зелёные листья. Ветер знал — ему не удастся изменить мир за одну ночь и ещё потребуется много-много ночей, чтобы земля стала по-настоящему унылой и голой. Но он уже приступил к своей безрадостной работе. Иногда мимо скакали кавалькады припозднившихся охотников, или это был поздний трамвай. Я дышал запахом чистого белья и время от времени ворочал головой, чтобы лишний раз почувствовать хруст выглаженной наволочки.
Я думал о произошедшем сегодня за обедом. В сущности, ничего особенного.
Если завтра Боксёр забудет о моём существовании, как о нём забывали все остальные после первого же разговора, всё встанет на свои места. Жаль только, что фотографии вместе не проявим. Завтра надо идти в школу, писать в тетрадях, скучать на переменах… Новый учебный год начался так, как начинались все предыдущие и как будут начинаться все следующие долгие учебные годы.
С утра мне нужно было ко второму уроку, математичка заболела. Это очень хорошо, потому что надёжно страховало от утренней встречи с мамой и Боксёром. Мама и так обычно уходила из дома раньше меня, работая на другом конце города, а если уж вставать ко второму, то даже если она проспит, у нас нет шансов пересечься. Ну и, конечно, она не оставит в квартире его одного.
Я потянулся, прижался всем телом к чистому белью и подумал: молодой королеве не пристало думать ночью о таких глупостях, как Боксёры и школа. Лучше помечтать о своём короле. Но никакого короля не было, и я решил — буду одинокой молодой королевой, лежащей в огромной спальне посреди лесов, полей и холмов, простирающихся вокруг замка на много миль, так что и самому настойчивому всаднику никогда сюда не доскакать.
Но он скачет и скачет, этот всадник на сером в яблоках коне. Я вдруг увидел, что всадник похож на Боксёра, и он гонится за Михой и Пнём, но никак не может их догнать — ведь они давно спрятались в канаве. И конь уже в мыле, и всадник устал, но он знает, что должен догнать врагов своей королевы, а вокруг него кружатся холмы, ветер срывает листья, хлещет в лицо ветками деревьев, но он скачет и скачет и скачет…
Электрический будильник, моя гордость, заставил меня вылезти из-под одеяла, в пятый раз нажать на кнопку и, наконец, встать. Как я и ожидал, квартира была пуста. Я быстро оделся, решил не чистить зубы — вчера чистил их дважды, выпил чаю с бутербродами и был готов к выходу.
Оставалась ещё одна деталь. Портфель. Он был огромный. Если держать его в вытянутой руке, он почти касался пола, так что приходилось всё время немного сгибать руку в локте. Внутрь поместились бы все мои учебники вместе взятые, хотя тогда, наверное, я не смог бы его поднять. Мама, конечно, гордилась своей покупкой и уверяла, что вся школа будет мне завидовать — ведь ни у кого нет портфеля из такого качественного кожзама! Она оказалась в чём-то права.
Мои одноклассники уже не первый год ходили с рюкзаками, которые непременно носили на одном плече, чтобы эффектно снимать их и бросать на парту перед началом урока. Я и думать боялся о том, какой фурор вызовет среди школьной общественности мой портфель и сколько потребуется времени, чтобы он перестал быть объектом насмешек.
Вчера я «забыл» его дома, это, впрочем, не спасло меня от канавы.
Сегодня такой манёвр невозможен, выбора нет. В общем, пришлось взять его и приготовиться делать вид, что портфеля не существует.
Я всегда приходил к самому началу первого урока или даже немного опаздывал, чтобы ни с кем лишний раз не встречаться. Но на сей раз, выйдя на футбольное поле, я разглядел вдалеке знакомые фигуры. Миха, Пень, Длинный, другие ребята из их компании и… Боксёр! Я хотел ретироваться, но было слишком поздно: они заметили меня и повернулись в мою сторону. Пришлось пересечь поле со своим нелепым портфелем. Я старался двигаться очень медленно, надеясь, что это мираж и вся компания исчезнет, пока я буду идти. Но они не исчезали, а, наоборот, становились всё ближе. Я не мог обойти их, сделав вид, что не заметил — они расположились у противоположного выхода с поля. Боксёр расправил свои огромные плечи, как будто собирался взмахнуть крыльями и взлететь, а вся компания стояла перед ним ссутулившись, с опущенными головами. На их лицах читалось неподдельное раскаяние. Я-то знал — они принимали такое выражение всякий раз, когда приходилось выслушивать нотации взрослых, но от него и следа не оставалось, как только рядом никого не оказывалось.
«Ну, ребята, значит, договорились?» — спросил Боксёр, и все хором что-то промычали в ответ в знак согласия. Подойдя, я пропищал «здравствуйте» Боксёру, проигнорировав остальных. Он ответил: «Доброе утро, Артём».
Потом закончил разговор с моими мучителями: «Ладно, давайте в школу, и, я надеюсь, нам больше не придётся встречаться».
Все быстро направились к школьному крыльцу, я шёл за ними на почтительном расстоянии. Я не оборачивался, но знал: мой незваный защитник смотрит мне вслед, думая, что сделал сегодня доброе дело. Я приблизился к двери и, не удержавшись, обернулся. Так и есть. Он стоял на том же месте, глядя на меня, и даже приветливо помахал рукой. Я не ответил и зашёл внутрь.
На урок я опоздал, пришлось извиняться. Но математичка не была занудой, как некоторые другие учителя, и просто позволила сесть, не отчитывая.
Весь класс был в сборе и глазел на меня, так что достойный дебют моего портфеля состоялся.
Сам процесс обучения меня интересовал мало. Нужно было делать то, что говорят учителя. Одно получалось лучше, другое не получалось вовсе, но я старался по возможности скрывать свои слабые стороны. Мне нравились уроки математики, потому что надо было писать много разных ненужных цифр, и тонкие тетрадки быстро заканчивались. Я испытывал почти садистское удовольствие, выбрасывая старую тетрадь и открывая новую, ей, я знал, скоро предстоит повторить судьбу предшественницы. Я любил уроки русского и литературы — читал много. И хотя мы не проходили тех книг, о которых хотелось говорить, я всё равно любил брать их в библиотеке, перелистывать страницы, потом обсуждать на занятиях или излагать своё мнение в сочинениях. Это была привычная рутина, и она не мешала мне жить. Были только два неприятных момента: перемены и уроки физкультуры.
На переменах полагалось ждать учителя в рекреации. Даже между спаренных уроков нас выгоняли из класса, чтобы мы ничего не разбили. Девчонки играли в скакалки или приставали друг к другу с очередными дневниками, в которых надо было отвечать на интимные вопросы. Мальчики носились по этажу, а став постарше, бегали за угол школы, и потом от них неприятно пахло сигаретами. Если только никому не приходило в голову поиздеваться надо мной.
Я обычно стоял в углу, стараясь слиться со стеной хамелеоном. После того как Пень отобрал у меня библиотечную книжку, бегал с ней, а потом утопил в туалете, я перестал читать на переменах и просто ждал, когда прозвенит звонок. Если сложить все перемены, которые я провёл у стены, получатся, наверное, годы. Мне не было грустно оттого, что я один и никто не позовёт меня курить или, не дай бог, играть в скакалки. Мне не хотелось этого так же, как и моим одноклассникам. Я бы лучше стал невидимкой, чтобы обо мне все забыли — и учителя, и ученики. Впрочем, я бы с удовольствием читал или сидел за партой, рисуя в тетради: стоять без дела было мучительно скучно. Не получалось даже представлять что-нибудь королевское — слишком уж неудобные поза и обстоятельства. Попробуйте проторчать у стены пять раз в день по 15 минут в течение нескольких месяцев. На вторые сутки у вас пропадёт воображение и вообще способность думать, зато вы приобретёте умение отключаться и смотреть в одну точку.
Когда звенел звонок, все врывались в класс, чтобы быстрее занять лучшие места — подальше от доски. Я заходил одним из последних, потому что не любил толкаться, да и не претендовал на заднюю парту с не самыми приятными соседями. Но по крайней мере был вместе со всеми и не становился предметом всеобщего внимания, как сегодня.
Я прошёл так, будто у меня вовсе нет портфеля, но тем не менее с задних парт раздался характерный звук, в котором угадывался едва сдерживаемый смех, а также проблемы, ожидающие меня на многих и многих грядущих переменах.
Весь урок я думал о том, что Боксёр хотел как лучше, но взрослые часто вмешиваются в нашу жизнь, совсем не представляя, по каким законам она течёт. Наверное, у них было какое-то другое детство, где старший брат или папа могли вот так пойти разбираться с обидчиками сына, и те навсегда переставали его доставать. Что-то такое встречалось в фильмах про послевоенное время. Не знаю, почему, но я был уверен — эта тактика никогда не сработает с моими одноклассниками, которые слабо подвергались внушению.
Доказательства моим догадкам не заставили себя долго ждать. На первой же перемене ко мне подвалила вся ватага во главе с Пнём.
— Муда, а зачем тебе такой большой портфель? Что ты там носишь? Грязные носки?
— Не обижайте его, а то он побежит ябедничать мамочке.
— Ха, ребзя, а вы видели его мамочку сегодня утром, она такая же огромная, как его портфель!
— А может, это не мамочка, а может, у Муды появился ухажёр, как вы думаете?
— Ага, он не Муда, он на самом деле Пида.
Они валялись по полу от этой шутки. Я стоял, прислонившись к колонне, как будто был здесь один. В голове крутилась квинтэссенция моей гордости и презрения к ним — фраза Пушкина про фрак, на который плюнули сзади и которым должен заниматься лакей. Никакого лакея у меня не было, но я старался относиться к юмору всей этой компании по-пушкински. То есть игнорировать.
Хотя портфель и стал одной из центральных тем перемены, никто не попытался отобрать его у меня, чтобы проверить, нет ли там грязных носков. Возможно, внушение Боксёра всё-таки подействовало, но нельзя было быть уверенным, надолго ли.
Возвращался я короткой дорогой. Миха прогулял последний урок, значит, они пошли к кому-то домой, так что опасности встретить их не было. Если не считать школы и детского сада, наш район был застроен девяти-и шестнадцатиэтажными домами, стоявшими вдоль улиц и во дворах. Как будто прочерченные по линейке проспекты. Такие же правильные и прямые здания.
Даже футбольное поле идеально овальной формы не выбивалось из общей картины. Большие дворы с детскими площадками, где гуляли женщины с колясками, универсам, булочная — всё казалось незыблемым и вечным. Дома были такими громадными и холодными, что я порой боялся поднимать глаза и шёл, смотря в землю и пиная крышку от пивной бутылки. Они должны были бы защищать меня, эти стены, но вместо этого, наоборот, угрожали. В каждом закоулке, куда не доставало солнце, крылось что-то зловещее и враждебное.
В субботу Боксёр исполнил и второе своё обещание, принеся какие-то порошки, бутылки и лотки для проявки плёнки и печати фотографий. Он начал объяснять мне, что нужно делать. Фиксаж, реактивы, проявители — все эти незнакомые слова завораживали, хотя я мало что понимал. Проявка была невероятно интересным процессом, но печать мне понравилась ещё больше. Боксёр повесил в ванной красный фонарь, и мы заперлись, предупредив маму, чтобы не входила.
Он колдовал над бумагой и плёнкой, попутно объясняя свои действия. Но я ничего не слышал. Мне нравилось просто наблюдать за его чёткими размеренными движениями, сосредоточенным лицом, таким мистическим в красных отсветах. Было немного душно, пахло чем-то химическим и ещё непривычным и терпким — мужским потом, который особенно сильно ощущался, когда мы вместе склонялись над лотком, вытаскивая очередную фотографию.
…Мне хотелось бы, чтобы эти карточки лежали сейчас передо мной — потрогать их, почувствовать подушечками пальцев старую шершавую фотобумагу. Но я не могу этого сделать. Я открываю отсканированные файлы на экране своего компьютера, чтобы всмотреться — и не узнать далёких и почти незнакомых людей.
Вот мальчик с правильными, немного прибалтийскими чертами лица, пухлыми щеками, твёрдым подбородком и очень серьёзными глазами. Карточка черно-белая, но я знаю — глаза у него голубые, особенно при ярком свете.
Губы плотно сжаты, как будто что-то рассердило его. Мягкие светлые волосы закрывают лоб, он только что вернулся после летних каникул с дачи, волосы выгорели на солнце, и оттого все пряди разных оттенков.
Белая рубашка застёгнута на все пуговицы, на лацкан старого пиджака от школьной формы прикреплён октябрятский значок. Мальчик предпочёл бы быть на этой фотографии в новой форме, но она испачкана, ведь его вываляли в канаве. Он так пристально смотрит на меня, что кажется — сейчас моргнёт, отвернётся и убежит, смущённый тем, что я слишком долго разглядываю его.
Вот несколько фотографий ещё молодой и по-своему красивой женщины. Она очень хочет нравиться тому, кто делает эти снимки. Сидит в короткой юбке, развернувшись к камере в профиль и закинув ногу на ногу. Стоит в облегающем платье с широким лакированным кожаным поясом, прислонившись к стене и по-балетному изогнувшись. Крашеные белые волосы придают её лицу что-то скандинавское, но она слегка полновата, и первое впечатление стирается из-за большой груди и широких бёдер. Она улыбается, чуть склонив голову, — это придаёт её лицу игривое выражение. Карие глаза и тонкие губы подчёркнуты косметикой, но не слишком — не хочет выглядеть вульгарно. Она позирует, но, кажется, не для снимка, а чтобы быть красивой и желанной здесь и сейчас.
Этих людей больше нет, потому что нет ни мыслей, ни чувств, которые владели ими в момент, захваченный плёнкой. Этот мальчик и эта женщина — они исчезли, пропали навсегда, остались в небытии. И мне даже кажется, что вытаскивать на свет эти старые снимки — непростительное кощунство.
Воспитание в нашей семье было весьма однозначным. Если я делал что-то плохое, получал серьёзную взбучку. Не могу сказать, предполагались ли награды за хорошее поведение, — насколько помню, ничего выдающегося я никогда не совершал. Таким образом, система кнута и пряника являлась в ипостаси кнута либо его отсутствия. Мама много работала, большую часть времени я был предоставлен самому себе. Но воспитательйо-карательные меры принимались достаточно часто, потому что поводов было предостаточно.
Вторым инструментом была психология. Среди подруг мама считалась хорошим психологом, способным не только найти корень проблемы, но и помочь выйти из замкнутого круга. Не знаю, пользовались ли они её советами, но задушевные беседы случались достаточно часто и длились далеко за полночь. Время от времени испытывать на себе мамины психологические таланты приходилось и мне.
Перед каждой такой беседой мама подзывала меня особой задушевно-психологической интонацией, которая, несмотря на то что я знал, к чему это ведёт, действовала, словно флейта факира на кобру. Я послушно шёл в её комнату и готов был рассказать, о чём бы она ни спросила. Я знал, что за психологическими разговорами никогда не последует взбучка, поэтому страшиться нечего. И тем не менее боялся их, потому что всякий раз рассказывал то, чего не собирался говорить никому.
Иногда я начинал плакать и признавался в самых страшных своих грехах и помыслах. Мама успокаивала меня, на какое-то время становилось легко и хорошо, как, наверное, христианину после исповеди. Только много позже, когда беседа была давно закончена и я сидел один в своей комнате, я начинал вспоминать, в чём покаялся на этот раз, и мне становилось невыносимо горько и обидно. Я снова плакал, теперь в одиночестве, и мне казалось, что несчастнее меня нет мальчика на всём белом свете. Я знал, что рано или поздно мои откровения всплывут, чтоб обратиться против меня, когда будет за что отругать. Но не это было причиной моих слёз. Я чувствовал, что меня открыли, выпотрошили, вычистили, вывернули наизнанку и снова закрыли. Внутри было пусто, я мог часами лежать, уткнувшись в стену, сотни раз повторяя один и тот же рефрен: «Меня никто не любит, меня никто не любит, меня никто не любит…»
В один из выходных после истории с канавой мама позвала меня к себе таким задушевным тоном. Я не представлял, что могло послужить причиной сегодняшней беседы, потому что ничего особенного за последнее время не произошло.
Я остановился на пороге, как будто зашёл на минутку и готов выполнить её поручение, если таковое последует. Я надеялся, что ошибся и беседы не будет. Я мог подмести полы или отутюжить бельё, только бы не пришлось сейчас садиться рядом с ней. Но нет. Она была настроена на психологический лад.
Мама сидела в кресле с видом оракула и курила. Клубы сигаретного дыма придавали ей таинственность и значимость. Она ласково взглянула на меня сквозь сизую завесу и пригласила на соседнее кресло. Главное теперь не встречаться с ней взглядом, иначе она сразу всё поймёт. Я не вполне отдавал себе отчёт, что именно она может узнать, посмотрев мне в глаза, но точно знал, что этого следует избегать.
— Знаешь, Артём, когда мы переехали в эту квартиру, у меня тоже был период, когда мне было одиноко. Я сложно приспосабливалась к новой школе, казалось, что я никогда не найду друзей. Все уже разбились на компании, но меня никто не хотел принимать в свою, даже за одной партой отказывались сидеть. Но потом это прошло, и я нашла себе подруг. Вот тётя Света — одна из них. Она теперь второй раз вышла замуж, так что мы общаемся очень редко, ты знаешь, её муж такой сложный человек, но до сих пор я считаю её близким другом. Ведь главное — это просто пережить тёмную полосу, потому что за ней непременно начнётся светлая.
Мама всегда начинала психологические беседы с притчи.
— Ты должен помнить, Артём, самое главное — ты не один, даже если тебе так кажется. У тебя ведь есть я, со мной всегда можно поделиться всем, что тебя тревожит, правда?
— Да, мам.
— Не нужно держать в душе то, что тебя беспокоит, тогда решение проблем обязательно найдётся.
— Да, мам.
— Тебе в школе сейчас непросто, я понимаю. Наверное, одиноко, не с кем поговорить, да?
— Да, мам. Просто у меня нет друзей.
— А тебе не хочется подружиться с кем-то из твоих одноклассников? Может, стоит сделать первый шаг?
— Нет, никто не будет со мной дружить. Я не могу делать первый шаг. Все только смеются надо мной.
— Почему смеются?
— Потому что я самый слабый в классе.
— Ну это ерунда какая-то. Как можно быть самым слабым в классе?! Вы что, силой мерялись? Из чего ты сделал такой вывод?
— Не знаю.
— Почему ты думаешь, что они все сильные, а ты такой слабый? Кто тебе это сказал?
Тут наступил тот момент, когда я перестал контролировать себя, начал плакать и взахлёб говорить всё, что приходило в голову: — Потому что надо мной все смеются. Меня только обзывают и говорят разные гадости. Со мной никогда никто не захочет дружить, потому что им скучно. Я всегда буду один, как сейчас. Меня в школе все только обижают, потому что я не могу дать сдачи. Они знают, что я самый слабый, и каждый день что-то придумывают. И у меня такой большой портфель, что над ним все смеются, а я ни-ни-че-го, ни-ни-че-го не-не могу сде-ла-а-ать. Я не-не хочу больше ходить в школу-у-у-у, мне там плохо-о-о-о…
Больше я не мог произнести ни слова, хотя многое ещё хотелось рассказать — и про Боксёра, и про канаву, и про свои прозвища. Я сидел в кресле и рыдал. Мама всё курила, смотрела на меня и ждала, пока я успокоюсь.
— Артём. Во-первых, физическая сила — совсем не главное. Главное — сила духовная. Поверь мне, когда ты окончишь школу и станешь взрослым человеком, все эти проблемы покажутся тебе смешными. Надо быть сильным в душе, потому что душевная сила остаётся с нами навсегда, а физическая — нет. Во-вторых, так же как и я, ты не похож на остальных. Я знаю, тяжело быть белой вороной, но от этого никуда не деться. Я уверена, ты просто лучше многих твоих одноклассников, они завидуют тебе, боятся тебя и именно поэтому пытаются внушить, что ты слабее и хуже их. Не поддавайся на эти провокации, Артём. Будь сильным. Нужно уметь быть другим. Вспомни сказку про гадкого утёнка. Важно поверить, что рано или поздно ты найдёшь единомышленников, которые станут твоими друзьями. Но таких людей за всю твою жизнь встретится совсем немного. Подумай сам, почему они должны появиться на твоём пути сегодня, а не завтра или, скажем, через несколько лет. Это так трудно — найти близких по духу людей. Нужно просто уметь ждать и быть достаточно сильным, чтобы справляться с сиюминутными неприятностями.
Её уверенный и спокойный голос заставлял меня плакать ещё сильнее. Мне хотелось раствориться в своём горе, исчезнуть навсегда. Я понимал: всё, что она говорит, не имеет ко мне никакого отношения. У меня никогда не будет друзей и тем более единомышленников. Ведь если есть на свете такие же слабые и неинтересные мальчики, как я (в чём у меня были большие сомнения), они точно также не решатся сделать первый шаг и заговорить со мной. Мне не хотелось быть белой вороной. Я хотел быть обычным человеком, к которому никто не пристаёт. Гадкий утёнок был на самом деле лебедем, только об этом никто не догадывался. А я просто слабак. Я даже не был уверен, что действительно нуждаюсь в ком-то, мне и одному неплохо. И уж конечно, меня совсем не успокаивали картины будущего, из которого я свысока смотрю на школьную жизнь.
Мало-помалу истерика сошла на нет, я утонул в своём несчастье, навалилась безграничная усталость, хотелось забраться в постель и снова оказаться в неприступной башне замка, куда не проникнут ни мамин голос, ни собственные рыдания. Я готов был согласиться с чем угодно и сделать что угодно, только бы психологический сеанс закончился и мне позволили уйти.
— Да, Артём, важно, чтобы ты понимал — сила не в мускулах, она внутри тебя. Я думаю, тебе не хватает уверенности. Пусть ты не можешь постоять за себя, в этом нет ничего страшного, но прежде всего нужно самому поверить в свои силы. Я тут посовещалась с дядей Сашей, и он мне дал неплохой совет — записать тебя в секцию карате. Ты знаешь, у него какой-то там пояс по карате, и он сказал, что в этой борьбе самое главное — умение не драться, а держать себя уверенно и не отступать перед противником. К тому же там будут новые ребята, с которыми ты сможешь подружиться.
Я не нашёлся, что ответить, хотя плакать перестал. Дядя Саша посоветовал записать меня на карате. Зачем мама вдруг решила советоваться с ним относительно моих трудностей в школе? Почему они не могут просто забыть обо мне, как будто меня вовсе нет? Неужели нужно постоянно придумывать что-то новое, лишь бы не оставлять меня в покое?
— В новом доме у метро есть такая секция. Там разные кружки, карате в том числе. Я вчера сходила посмотрела, мне очень понравился тренер, я записала тебя на среду. Это два раза в неделю в пять вечера, ты сможешь заниматься после школы, а потом как раз будет оставаться время на уроки.
На этом сеанс закончился. Я вернулся к себе, но вместо того чтобы плакать на диване, уткнувшись в стену, сел в состоянии не столько опустошения, сколько недоумения.
Карате. Если бы меня попросили составить список вещей, которыми я не хотел заниматься, карате просто не пришло бы мне в голову. Любая спортивная активность вызывала смешанное чувство отвращения и страха.
Уроки физкультуры были второй неприятностью после перемен. В тесной и грязной раздевалке плохо пахло, к тому же никогда нельзя быть уверенным, чем закончится сам процесс переодевания. Каждый раз, когда я снимал брюки, возникала реальная опасность лишиться и всей остальной одежды.
Как-то мальчики стянули с меня трусы и забросили их на дерево. Те провисели синим флагом моего позора всю осень и половину зимы, пока в одну ночь их, наконец, не сорвал ветер. Но такие эксцессы случались нечасто, потому что я выработал более-менее безопасную стратегию.
Как и к первому уроку, на физру нужно было прийти чуть позже, чтобы в раздевалке уже никого не было, но не опоздав при этом на урок ни на минуту. Если ты входил в спортзал после звонка, физрук был неумолим.
Нельзя сказать, что его фантазия отличалась изощрённостью — требовалось лишний раз подтянуться или подняться по канату перед всем классом. Для меня это было абсолютно недопустимо — подтягиваться я не умел, а на канат залезал только на высоту собственного прыжка. Так что приходилось висеть на турнике под хохот класса, пока учитель не решит, что большего от меня не добиться и экзекуцию можно заканчивать.
Бесполезен я был и во время игр, которых весь класс с нетерпением ждал.
Я не видел смысла в беготне с мячом по залу или полю, боялся упасть и разбить коленки и чаще бежал от мяча, если кому-то вдруг приходила странная идея дать мне пас. В результате никто не хотел брать меня в свою команду, и понимающий физрук позволял мне ждать конца урока, сидя на лавке. Ему, впрочем, нужно было ставить оценки, поэтому иногда он устраивал нечто вроде контрольных работ. Помимо упомянутых уже подтягиваний и каната, мы бросали мяч в баскетбольное кольцо, прыгали через козла и бежали кросс. Всё это получалось у меня из рук вон плохо.
Если очень везло, я попадал в кольцо один раз из двадцати. Бегал я быстро, но всё равно еле дотягивал до тройки по нормативам. Чаще всего урок физры ограничивался для меня разминкой, после которой я тихо скучал в углу.
Зимой ждало новое издевательство — лыжи. Приходилось тащить их из дома, что уже само по себе было не самым приятным занятием: они были вдвое выше меня. Кроме того, физра с лыжами почти стопроцентно означала, что я закончу урок в сугробе со снегом за шиворотом. И хотя ходьба на лыжах не казалась такой ужасной, как бег или баскетбол, вся эта суета, снежки и мокрые варежки не сулили ничего хорошего.
И вот карате. Безапелляционный мамин тон не оставлял надежд на то, что получится увильнуть. Лучше подчиниться и посмотреть, что из этого выйдет. Может, там будет не так плохо, как на физре? Или тренер окажется приятным человеком, а мальчики из секции — лучше Михи.
Я представил тренера, похожего на Джеки Чана или Брюса Ли: как он будет учить нас кричать и махать руками. Или, например, это окажется старый мудрый японец, он поделится древними секретами своего мастерства, главный из которых — священная молитва буддийских монахов, парализующая противника. Вот ребята из школы снова решили отобрать у меня портфель и побегать с ним по рекреации. Я встаю в боевую стойку и говорю что-то по-японски, после чего они все падают на пол в страшных муках, а я спокойно иду на урок литературы.
Я, разумеется, не верил, что смогу когда-нибудь использовать карате по назначению. Мысль ударить кого-то заведомо сильнее меня представлялась мне лишённой логики. Ведь если сопротивляться, будет только хуже, потому что обидчик разозлится. Зачем испытывать судьбу, если можно просто переждать бурю.
Яне знал, что нужно надевать для занятий карате, мама на этот счёт ничего не сказала, и в среду я просто взял форму для физры. Секция находилась в большом красном кирпичном доме, построенном совсем недавно.
Его фасад был не плоским, как у других зданий, а в форме зубцов крепостной стены. Это делало его немного громоздким, но внушало уважение. Вообще-то в нашем районе ничего не появлялось, так что когда строители разобрали забор, установленный вокруг нового здания, это стало настоящим событием. Все ходили в новое кафе поесть мороженого и в новый магазин игрушек поглазеть на витрины. Очень быстро новый дом стал понятием нарицательным, все так и говорили: «Встречаемся у нового дома» или: «Пойду в булочную в новом доме». В торце находилась небольшая дверь с прикреплённым к ней листом бумаги. На нём крупными печатными буквами было написано: «Успех. Клуб восточных единоборств. Карате-до, кунг-фу, дзю-до и пр.» Мне стало немного не по себе, как будто я делал что-то запретное, но раз уж пришёл сюда с формой, отступать поздно.
Я зашёл, пересёк коридор и заглянул в деревянную дверь, где висела такая же табличка. За обычной школьной партой сидел мужчина, я сразу понял, что это тренер, хотя он и отдалённо не походил на японца. Он был одет в странный белый костюм и казался слишком большим для своей парты. Я подумал про Боксёра — как бы он смотрелся на этом месте? — и решил, что, наверное, так же нелепо. Мужчина спросил мою фамилию, пометил что-то в лежащем перед ним журнале и показал, где нужно переодеваться.
Раздевалка была просторная и чистая, здесь пахло свежей краской и резиновыми сиденьями. Странно, что с того момента, как я вошёл в дверь с надписью «Успех», я не встретил никого, кроме тренера. Может, это специальные курсы, где карате обучают один на один? Было бы неплохо. Я быстро переоделся, но вскоре мои мечты о персональных тренировках рассеялись — в раздевалку один за другим стали входить другие мальчики.
Я подумал, что самое ужасное сейчас — встретить кого-нибудь из школы.
Вот уж тогда позора не оберёшься. И представил, как ко всем моим кличкам добавится ещё одна — «мудик-каратист». Вот будет смешно-то! Я сел в угол и стал наблюдать за приходящими — к счастью, все они были мне незнакомы.
Занятия проходили в зале с резиновым полом и зеркалами на стенах.
Пожалуй, я не встречал ещё помещений с таким большим количеством зеркал.
Куда бы я ни глянул, я видел десятки своих и чужих отражений. Сначала это показалось забавным, потому что позволяло незаметно наблюдать за другими. Но потом я понял, что это опасно, ведь всегда есть риск встретиться взглядом с объектом наблюдения. Тренер в белом костюме расставил нас в шахматном порядке и встал перед нами.
— Ребята, добрый день. Меня зовут Алексей, я ваш тренер по карате. Для начала несколько правил, которые нельзя нарушать, иначе будем исключать из клуба. Первое — не опаздывать. Если вы опаздываете, то лучше вообще не приходите, потому что в карате главное — равновесие, в том числе равновесие группы. Если вы станете приходить по очереди после начала тренировки, никакого равновесия не получится. Второе — пропускать можно не больше двух раз подряд, иначе потом сложно навёрстывать. Если возникнут какие-то форс-мажоры, будем решать в индивидуальном порядке либо переводить в другую группу.
Тренер — невысокий коренастый широкоплечий мужчина маминого возраста — говорил медленно, с расстановкой, заложив руки за спину и расхаживая взад-вперёд. Было видно, что он произносит этот текст не в первый раз, но тот всё равно даётся ему с трудом. Слова получались угловатыми и тяжёлыми, как будто он считал, что мы не очень хорошо понимаем по-русски и если говорить быстро, до нас ничего не дойдёт.
— Карате — древнее боевое японское искусство. В переводе с японского это слово означает «путь пустой руки». То есть способ поразить противника, не имея оружия. Карате создано для самозащиты, и то, чему вы здесь научитесь, нельзя использовать во вред или для нападения, иначе оно обернётся против вас. Самое главное в карате — душевное равновесие.
Именно оно придаёт силы и устойчивости вашим мышцам, вы становитесь гораздо эффективнее с теми же физическими данными. Если нет равновесия, ничего не получится.
Я решил сохранять душевное равновесие во что бы то ни стало, особенно во время тренировок. Это было несложно, если не заставляли подтягиваться, отжиматься или делать ещё какие-то упражнения. Нас учили правильно стоять и держать кулак, чтобы сразить воображаемого противника наповал.
Я не совсем понял, как проверить, сражён ли воображаемый противник или нет, но вопросов не задавал, чтобы не привлекать внимание.
После тренировки полагалось принять душ. В школе у нас тоже были душевые кабины, но ими никто не пользовался. Не знаю даже, была ли в кранах вода или они простояли всухую с самого открытия школы и потому стали такими грязными. Последний раз я мылся в компании года в два — мама купала меня на даче в лохани вместе с соседским мальчиком. Я и сейчас не смог бы объяснить, почему эта идея вызвала тогда во мне бурный, хотя и скрытый восторг. Но с тех пор прошло много времени, и теперь я чувствовал себя неловко. Мне стало стыдно раздеваться, казалось, все будут смотреть на меня. Я хотел просто переодеться и пойти домой, но тренер сказал о душе таким не допускающим возражений тоном, что пришлось подчиниться.
Внутреннее равновесие было окончательно утрачено.
Я раздевался медленно, в расчёте на то, что все помоются прежде, чем я зайду. Но снимать было особо нечего, поэтому времени я почти не выиграл.
Красный от смущения, я шёл к душевым, смотря в пол и боясь взглянуть на других мальчиков. Но даже то, что я увидел украдкой, заставило меня залиться краской: все они были разного возраста, и я оказался одним из самых маленьких. Остальные чувствовали себя прекрасно: смеялись, пародировали тренера и кидались мылом. Я закончил как можно быстрее и вышел из душевой. Два парня, которые, видимо, были давно знакомы, о чём-то шептались, посматривая на меня и улыбаясь. Они, наверное, заметили, как я всех разглядывал, и теперь поднимут меня на смех. Я оделся и выбежал на улицу.
На карате я решил больше не ходить, потому что не был готов к новым переживаниям. Добром это точно не кончится. Нужно придумать что-то для мамы, но сейчас никакие отговорки в голову не приходили. Ну ничего, до следующей тренировки оставалось ещё два дня, авось что-нибудь да придумается.
Ну как, понравилось тебе на карате? — спросил Боксёр.
— Нормально.
— Что вы делали там сегодня?
— Разные стойки. Учили, как правильно держать кулак.
— А, это важно, да. Кулак — основа основ.
Боксёр появлялся у нас всё чаще, опередив по длительности присутствия многих других маминых мужчин. Иногда он даже проводил с нами выходные, чего раньше почти не случалось. Впрочем, со мной он общался немного — я вёл себя не слишком любезно, всем своим видом показывая, что предпочитаю одиночество.
Каждый раз, приходя к нам, он предпринимал осторожные попытки разговорить меня, но мне хватило студии карате и его беседы с Михой и Пнём, чтобы понять — каждое моё слово может иметь последствия. Хорошо ещё, что он не был мастером психологических бесед, как мама, и моему душевному равновесию не угрожал.
— Ну как, одноклассники твои больше не трогают тебя?
— Нет.
— Испугались, я так и думал.
Обманывать старших нехорошо, но я не особо и обманывал — меня действительно никто не трогал, а все шутки в мой адрес можно было расценивать как разыгравшееся чувство юмора, пусть и не очень тонкое.
Боксёр занимал всё больше места в нашей, а самое главное, моей жизни. Он проявлял столько усилий к тому, чтобы сблизиться, как никто до него, интересуясь мной иногда даже активнее, чем мама. И в этом интересе не было ничего угрожающего, поэтому хоть я и относился к нему с прежним подозрением, стал понемногу привыкать к его присутствию.
Он был сильным, но никогда не бравировал этим. Так, другие могли ни с того ни с сего начать со мной понарошку драться, валить на диван, щекотать. Мне такие демарши не нравились, я уже не был детсадовским ребёнком. Боксёр же каждый раз осторожно пожимал мне руку, когда здоровался и прощался, и этим наши физические контакты ограничивались.
Однажды мы втроём пошли в зоопарк, мне купили мороженое и сахарную вату.
Я ел и думал, что так вот, наверное, обычные дети и ходят в зоопарки с мамой и папой. С той лишь разницей, что Боксёр мне вовсе не папа, к тому же рано или поздно он исчезнет, как и все остальные мамины друзья.
Пару раз он даже пытался играть со мной, расспрашивая про армию моих мягких игрушек, но это было царство, в которое не было доступа никому.
— А эта мышь, она кто у тебя? Королева?
— Герцогиня.
— Она тут самая главная, верно?
— Да.
— Это её друзья?
— Нет.
— Слуги?
— Нет.
— Так кто же?
— Придворные.
Меня тронуло, что Боксёр искренне старался вникнуть в мою игру, но он оставался чужаком из мира взрослых, поэтому играть с ним было опасно. Он всегда мог рассказать что-нибудь маме, мне пришлось бы снова разговаривать с ней или, чего доброго, с ним. Мои односложные ответы давали ясно понять — играть вместе у нас не получится, поэтому Боксёр оставил эту идею. Впрочем, время показало, что в некоторых вопросах на него можно было положиться.
Прошло два месяца с тех пор, как меня записали на карате. За это время я пропустил много занятий. Иногда опаздывал минут на десять, и тренер не пускал меня в зал, иногда просто оставался дома, если был уверен, что мама задержится. Несмотря на угрозы перевести прогульщиков в другую группу, меня никуда не переводили — да я и не был уверен в её существовании. Не могу сказать, что мне не нравились тренировки, хотя толку в них было не больше, чем в уроках физкультуры. Я научился правильно стоять, держать кулак и даже наносить удары воображаемому противнику, по-прежнему не представляя, как бы пользовался этими навыками с противником реальным.
Много сил уходило на душ, где я не мог задерживаться ни на минуту.
Секрет был в том, чтобы прийти туда первым, занять крайнюю кабинку, быстро помыться, отвернувшись к стене, и пулей вылететь из здания. Пока остальные раздевались и дурачились, я был уже на улице.
Ребята быстро подружились друг с другом и разбились на группы, я же избегал новых знакомств. Иногда они посматривали на меня и чему-то смеялись, но им было не интересно ни общаться, ни шутить надо мной — все они были старше. К тому же Боксёр пару раз забирал меня после тренировки. Думаю, это прибавило мне авторитета.
Была, впрочем, ещё одна причина, заставлявшая меня посещать тренировки по карате с большим рвением, чем уроки физкультуры. У тренера была своя раздевалка, вход в нее вёл прямо из спортзала. Обычно он ждал, когда мы выйдем, и затем переодевался и мылся. Однажды, завязывая шнурки в прихожей, я бросил взгляд в зал и в сложном переплетении зеркальных отражений увидел тренера, только что вышедшего из душа. Мне было видно совсем немного в чуть приоткрытую дверь, но я не мог оторвать глаз от обнажённого тела в течение нескольких минут. Позже я заметил, что дверь в тренерскую была слегка перекошена и никогда не закрывалась плотно.
Теперь к моим хитростям добавилась ещё одна — начинать шнуровать ботинки в правильный момент, чтобы застать переодевание тренера.
Что я тогда чувствовал? Выходя из зала, я немного боялся, что сегодня он решил не принимать душ, или что дверь починили, или что в нашей раздевалке сидит Боксёр либо кто-то из родителей. Когда я видел его отражение, сердце замирало и падало. Мне хотелось находиться рядом с ним, но быть невидимкой, стоять и наблюдать за его движениями: вот он наклоняется, чтобы вытереть ноги, надевает синие трусы, садится, чтобы натянуть носки. Где-то в тёмных уголках моей души я надеялся увидеть нечто большее, зная, что на таком расстоянии всё равно ничего не разгляжу. Самое неприятное было в том, что через считанные минуты приходилось вставать и выбегать из раздевалки, чтобы не быть застигнутым на месте преступления.
Один древнегреческий охотник поплатился за такие подглядывания жизнью, не могло это ничем хорошим закончиться и для меня. Однажды, когда я подсматривал за тренером, в прихожую ввалилась компания ребят. Они не ожидали меня увидеть, привыкнув к моим быстрым исчезновениям.
Заворожённый объектом своего наблюдения, я не сразу отреагировал на их появление, и этих секунд хватило, чтобы они подошли ко мне и увидели причину моего оцепенения. Моё странное поведение после тренировок, смущение в душе и сегодняшнее происшествие сложились для них в одну картину.
— Ребзя, да Артёмка-то у нас гомик, смотрите, подглядывает за голым Алексеем!
— Фу-у, я не хочу с ним мыться, он за нами тоже подглядывает.
— Гомик, гомик!
— Эй, гомик, хочешь на мой посмотреть?
Что-то большое и опасное надвинулось на меня. Как ожидающий своей участи кролик не смеет шелохнуться перед удавом, так и я замер на лавке, смотря по сторонам и не находя сил встать, чтобы убежать домой. Люди вокруг меня двигались, как в замедленной киносъёмке. Вот они плавно поднимают и опускают руки, как космонавты на Луне, раскрывают широко рты в беззвучном смехе, неестественно медленно шевелят губами, как будто произносят слова по слогам, но слов не слышно, звук отключён. Один из них так сильно смеётся, что прислоняется к стене и сползает на пол.
Другой непристойно двигает бёдрами. Вот практически одновременно открываются противоположные двери, и в прихожую входят тренер и Боксёр.
Они смотрят на нас, не понимая, что происходит. Никто, кроме меня, не замечает их, но я никак не реагирую на их появление.
— Так, что тут за катавасия? — это тренер останавливает замедленную съёмку, все поворачиваются к нему и хором начинают оправдываться.
–..да он подглядывал за вами, Алексей…
— …пока вы переодевались…
— …он каждый раз так делает…
— …уходит раньше всех и потом подглядывает…
— Так, давайте живо все по домам. Артём, ты подожди, мне нужно с дядей Сашей поговорить.
Если я получал двойку, терял ключи от дома или покупал мороженое вместо школьного обеда, то всегда знал, какое последует наказание. Я допускал, что поступил плохо, но меня никогда не мучила совесть. Проступки объяснялись стечением обстоятельств и не вызывали во мне настоящего стыда, как бы я его ни демонстрировал маме и учителям. Природа его была мне в принципе непонятна. Я думал, стыд — это когда ты публично признаёшь, что повёл себя плохо и больше так делать не будешь. Но всё это говорилось скорее для взрослых, чем взаправду.
Сегодня я впервые в жизни почувствовал настоящий стыд, причём никак не мог его себе объяснить. Да, я сделал что-то нехорошее, но в списке проступков подглядывание и подслушивание не занимали высокого ранга.
Меня и раньше ловили за этим занятием дома, но мама обычно ограничивалась лёгким подзатыльником. Теперь же все включая меня придавали произошедшему исключительное значение.
Я вспомнил фразу, которую употребляла мама, если ей приходилось беседовать с учителями. «Я готова сквозь землю от стыда провалиться», — так говорила она. Это было именно то, чего я желал в тот момент — провалиться, исчезнуть, чтобы меня никогда не было раньше и никогда не существовало после. Я не боялся наказания, но меня охватывал ужас при мысли, что придётся жить дальше: ходить по улице, завтракать, писать контрольные работы, когда все вокруг знают о том, что я сделал. Я бы хотел попасть в машину времени и устроить так, чтобы не родиться вовсе, тогда бы я не оказался в этой переделке. Или нет, лучше попасть в машину времени и не ходить на карате, ну или хотя бы не подглядывать за тренером. Или хорошо бы, чтоб мимо нового дома пролетал самолёт, у которого отказал двигатель, и он упал бы прямо на нас. Тогда я, тренер и Боксёр погибли бы, и никто не вспомнил больше об этой истории.
Не знаю, сколько я провёл в ожидании: 15 минут, час, два, три? Время тянулось так медленно, но всё равно слишком быстро… гораздо быстрее, чем хотелось.
Я ожидал увидеть на лице Боксёра насмешку. Она бы усилила мои страдания, но я был готов — уж с насмешками-то я научился справляться. Он вышел с таким расстроенным видом, будто именно его застали за подглядыванием.
Это превзошло самые пессимистичные ожидания касательно глубины моего падения.
По улице шли молча. На одном ботинке болтался шнурок, который я так и не успел завязать — не до того было. Я смотрел под ноги и думал о том, что произойдёт дома. Мне не было до конца ясно, есть ли какое-то оправдание, способное смягчить мою вину. Вдруг Боксёр выдохнул: — Ладно. Маме говорить ничего не будем. Я что-нибудь придумаю, чтобы ты больше не ходил сюда.
От неожиданности я наступил на развязанный шнурок и споткнулся. Это был нокаут. Сначала я не совсем понял, радоваться мне или огорчаться, но потом откуда-то поднялась волна счастья и захлестнула меня всего, смыв стыд и страх. У меня есть общий секрет с Боксёром! Я не думал о характере этого секрета, было важно само его наличие. У меня нет общих тайн ни с кем. То есть своих собственных очень много, порой казалось, что половина моей жизни скрыта завесой, но общих тайн с кем бы то ни было — никогда, а уж тем более с мамиными мужчинами.
Единственный человек, с которым у меня были секреты от мамы, — отец. Он редко ругал меня и часто скрывал мои проделки от остальных. Он мог выслушать жалобы воспитательницы на мое поведение, а потом посмеяться над ней за стенами детского сада^Еазалось, он не вполне серьёзно относился к своим родительским обязанностям или ему было лень заниматься мной. Так или иначе, при полном отсутствии педагогики с его стороны между нами была какая-то общность. Но однажды он пропал так же внезапно, как и все остальные.
Все каникулы, включая летние, я проводил на даче с бабулей. Родители приезжали каждые выходные, и я ждал их, несмотря на то что с приездом мамы у меня всегда прибавлялось поручений. Я знал, что они привезут в дом жизнь, шум, шоколад, фрукты, а возможно даже и подарки.
Летние каникулы были ярким пятном на фоне рутины детского сада и школы.
На три месяца я тонул в звенящем жарком воздухе деревни. Миллионы звуков, таких родных и таких разных, сначала оглушали меня, как оркестр — непривыкшего к опере слушателя, и только через некоторое время я начинал различать отдельные инструменты, игравшие лучшую в моей жизни увертюру. Жужжание назойливых мух днём и комаров ночью, мопеды деревенских парней, мычание коров и блеяние овец, стук волана о ракетку для бадминтона, скрежет старой пилы. И смех, смех, много смеха. Сотни красок обступали меня со всех сторон, и я не мог чётко разглядеть ни одного предмета, как будто неожиданно прозревая после долгой зимней слепоты.
Ничего особенного не происходило, но жизнь была наполнена событиями. В отличие от города, на даче у меня были приятели — соседские дети, вместе с их родителями мы ездили купаться на озёра. Вряд ли можно было назвать их друзьями в полном смысле слова, но всё же какое-никакое общение.
Каждый июнь я не просто уезжал на дачу, но становился другим мальчиком — открытым, радостным, счастливым и общительным. Казалось, все остальные тоже преображаются и становятся добрыми, любящими и ласковыми. Мама даже наказывала меня гораздо реже (или причиной было то, что мы виделись только раз в неделю?).
И вот несколько лет назад мама стала приезжать на дачу одна. Когда папа пропустил несколько выходных, чего не случалось прежде, я не очень удивился, поверив в его занятость на работе. Но когда он не появился и на моём дне рождения, в голове стали крутиться смутные вопросы.
Однажды по дороге из магазина я вдруг подумал с неприятной лёгкостью: «Наверное, они развелись». Это слово было склизким и гадким, как след от слизня на широком плоском листе осоки. Я не совсем понимал его значения и даже не смог бы объяснить, откуда оно взялось. Наверное, сквозь сон слышал обрывки фраз. Я попытался отогнать от себя эту навязчивую мысль, но она преследовала меня, мешая думать о чём-то другом. «Развелись, развелись, развелись», — шелестели деревья. «Развели-и-ись», — скрипела велосипедная цепь. Нет, не может быть. Зачем я вообще начал думать об этом? Мама всегда говорила, что мысли материализуются. Нельзя думать ни о чём плохом, потому что сам будешь виноват, если всё окажется правдой.
Но я не мог остановиться, мысль как будто уже жила сама по себе.
Внезапно с меня слетела пелена летнего настроения, всё вокруг сделалось чётким и осязаемым, я снова стал городским. Мир больше не был радушным.
В глаза бросились незамеченные раньше детали: полуразрушенный дом с провалившейся крышей и заколоченными окнами, разбитый асфальт с глубокими выбоинами, потрёпанная, давно не крашеная стена сельского магазина, на которой из-под бежево-оранжевой отлупившейся краски выглядывала серая штукатурка.
Мне захотелось вернуться в город, чтобы не портить дачу своим новым состоянием.
Я вернулся домой. Именно тогда я впервые услышал мамин задушевно-психологический голос. Раньше таким тоном она никогда со мной не говорила, поэтому я удивился какой-то новой для меня угрожающей ласке и подумал: сейчас меня будут ругать за мысли, которые я думал по дороге из магазина. Но я даже представить не мог, какое наказание меня ожидает.
В первый и последний раз в жизни я начал психологическую беседу сам: — А почему папа не приезжает?
— Видишь ли, Артём. В жизни часто случаются ситуации, когда люди долго живут вместе, а потом вдруг перестают по разным причинам.
Мама говорила и говорила что-то важное и нужное, но я как будто погрузился в дрёму. Не в приятный сон после насыщенного дня, а в такой, где ты тонешь, как в зыбучих песках, из которых никакие выбраться.
Страшная мысль обволокла меня и потянула вниз: я был прав. Я во всём виноват. То утреннее слово больше не звучало в голове, что-то большое и тяжёлое обступало меня со всех сторон, сдавливало, грозясь раздавить. Я всё разрушил.
— …в общем, папа больше не приедет.
Огромное и вязкое, наконец, засосало меня целиком, я не мог больше стоять и упал на колени, мама уложила меня на диван. Я отвернулся к стене, чтобы эта тяжесть не давила мне на лицо, а только на спину, и начал повторять про себя, как молитву: «Я виноват, что меня никто не любит, сам виноват, что меня никто не любит…»
Нельзя сказать, что летние каникулы с тех пор стали другими, но что-то навсегда изменилось. Я научился жить с этим вязким чувством. Оно особо мне не докучало, и только мамина психологическая интонация иногда напоминала о нём, заставляя ложиться лицом к стене. Память о папе со временем стёрлась, он стал одним из многих мужчин, которые появлялись и исчезали в нашей жизни. И только теперь, когда я неожиданно почувствовал заговорщическую общность с Боксёром, я вспомнил, что такое уже было раньше.
Не знаю, что Боксёр рассказал маме, но тема единоборств больше не поднималась. Мне в целом нравилось, когда он приходил к нам, потому что мама оставляла меня в покое. Он по-прежнему предпринимал ненавязчивые попытки подружиться со мной, интересовался школьными делами и старался понять сложную систему взаимоотношений между мягкими игрушками, населявшими мою комнату:
— Понимаете, дядя Саша, это герцогиня де Мышек, она мышь. Она здесь самая главная, вот у неё знак висит на цепи. Это граф Медведь, он — принц-консорт.
— Кто-кто?
— Ну, муж королевы, то есть герцогини^ но не самый главный, ведь он не может быть герцогом. Это вот графиня де Лис, она в опале, из-за того, что была любовницей Медведя.
— Кем-кем?
— Любовницей, ну это когда они ночью тайно встречаются в замке.
— А ты кем бы хотел быть, если бы сам жил при своём дворе?
— Как кем? Герцогиней, конечно, она же здесь самая красивая.
Постепенно я не только привык к его присутствию, но мне стало не хватать его, когда он долго не приходил. Мама провела со мной ещё один длинный психологический разговор на тему, нравится ли мне дядя Саша — вопрос в высшей степени странный, потому что раньше она моим мнением не интересовалась. Я, впрочем, не стал распространяться, отделавшись односложными ответами, но с положительным уклоном.
Новый год мы встречали дома. Давным-давно, когда я был совсем маленьким, бабуля жила и работала в городе, дед был жив, а папа ещё не пропал, это был большой праздник. К нам приезжали гости, многие с детьми. Вечером непременно приходил Дед Мороз, под двумя стоявшими вместе пышными ёлками лежали подарки, всё было шумно, весело и долго. Никто не следил, во сколько дети ложились спать, мы укладывались сами, когда уже не оставалось сил играть и ползать за сладостями. Потом состав нашей семьи сильно изменился, друзья родителей куда-то испарились вместе со своими детьми, и со временем мы стали встречать Новый год втроём, переместившись на дачу, где я проводил и зимние каникулы. Потом мы переместились на дачу, где я проводил и зимние каникулы. Зимой жизнь в общем-то большого дома сосредотачивалась в двух маленьких комнатах, расположенных по две стороны разлапистой русской печки. В одной из них и помещался праздничный стол, срубленная в лесу ёлка и телевизор. Мы ужинали, смотрели один из выученных наизусть фильмов, после курантов запускали на улице фейерверки и ложились спать.
На даче было слишком мало места для четверых, так что в этом году празднество снова перенеслось в город.
Не знаю, в какой момент Новый год перестал быть праздником. Сначала я понял, что подарки под ёлку кладут родители, и разочаровался в приходивших в сочельник Дедах Морозах. Нельзя сказать, что эти открытия сильно меня раздосадовали, хотя, несомненно, вымыли первый кирпич из фундамента моего доверия. Год за годом дата эта теряла свою значительность. Новый год ещё сохранял отличительные черты: стол с салатами, подарки, приподнятое настроение, но всё это стало банальным, новогодняя ночь больше не была особенной и долгожданной. Тем более что праздничный стол, с оливье, винегретом и селёдкой под шубой в хрустальных салатницах, шпротами, варёными яйцами с майонезом, жареной курой, красной икрой и неизменной бутылкой советского шампанского, накрывался в нашем доме по самым разным поводам: от дня рождения до 9 Мая.
Я любил получать подарки, но почти всегда знал заранее, что спрятано в этих завёрнутых в цветную бумагу пакетах: конфеты, плитки шоколада, какие-нибудь школьные принадлежности или машинки. Я не имел ничего против шоколада и игрушек, но они не заставляли моё сердце радостно биться. Мне бы так хотелось получить новое платье для герцогини де Мышек или хотя бы золотую корону для её мужа… Но я боялся просить это у мамы, потому что не был уверен в её реакции.
Да и сам процесс вручения подарков заставлял меня чувствовать себя немного странно. Из года в год повторялось одно и то же. Посреди застолья меня отправляли на кухню выключить духовку или принести лимонад. Я шёл, зная, что произойдёт дальше: когда я вернусь, нужно будет занять своё место с самым обычным видом и подождать несколько секунд, пока бабуля не скажет:
— Ой, а что это под ёлкой-то лежит? Коробки какие-то. Давайте-ка посмотрим, может, Дед Мороз нам принёс что-то.
Не то чтоб мне не нравились подарки, или было неинтересно раскрывать пакеты с моим именем, или я не радовался набору из кубиков «Кижи» либо пластмассовому грузовику (в конце концов, можно сделать из него карету для герцогини). Но ко всему примешивалась некоторая неловкость. Неужели они не догадываются, что я уже давно всё понял? Я чувствовал себя виноватым в том, что не верил в их Деда Мороза. Они же хотели как лучше, я знал это и даже подыгрывал им. Но ведь они всё делали искренне, а я лишь играл, и от этой вынужденной игры мне становилось стыдно.
Хотя были ли они так уж искренни? На этот вопрос тоже не было однозначного ответа. В сочельник меня никто не ругал, и до известных пределов можно было делать всё, что вздумается, — этим Новый год походил на день рождения. Но, как и в день рождения, я знал, что эта вседозволенность закончится уже на следующее утро. Я не понимал, почему мама не может быть такой же доброй круглый год и надо непременно приурочивать любовь к каким-то праздникам.
Одним из самых приятных и никогда не надоедавших новогодних занятий было наряжать ёлку. С антресолей доставались игрушки, которые были гораздо старше мамы, а некоторые — и бабули. В этом году мы привезли все эти коробки с дачи. Помимо обычных шаров, здесь встречались герои мультфильмов и сказок, разные животные и даже Щелкунчик, которым нельзя было расколоть ни одного ореха, потому что он был стеклянный. Мне нравилось прикреплять игрушки к ёлочным лапам, колоться щеками об иголки, когда нужно было повесить гирлянду ближе к стволу, дышать свежим хвойным почти морозным воздухом. Я бы с удовольствием наряжал её без посторонней помощи, но то ли бабуля не могла доверить мне ёлку полностью, то ли ей самой хотелось в этом поучаствовать. Под конец она вешала гирлянды и разноцветный дождь, водружала на верхушку красную звезду — такую же, как на башнях Кремля (о чём она с гордостью напоминала мне каждый год, хотя я уже давно это усвоил).
— Ну вот, теперь готово. Доча, поди посмотри, какую мы с Артёмом ёлку нарядили!
Потом они вместе занялись салатами и жарким, а я был предоставлен самому себе до самого ужина. К празднествам готовились и во дворце герцогини де Мышек. Специально для этого вечера она надела серьги с рубинами (тайно позаимствованы из бабулиной бижутерии), а также золотую цепь, присланную из африканских владений (это уже из маминого шкафа). Придворные соберутся вокруг своей повелительницы ровно в полночь, чтобы чествовать меня всем двором. Я буду стоять в лучах тысяч свечей, мои глаза будут сверкать ярче, чем драгоценности, я буду купаться во всеобщем восхищении. Молодые дворяне, все как один влюблённые в меня, будут ждать, пока я оброню платок, чтобы сделать его своей реликвией. Но им известно, что моё сердце навеки отдано другому, а он…
— Артём, открой дверь, дядя Саша пришёл.
Боксёр ввалился фыркающим и отряхивающимся сугробом из коробок, свёртков и пакетов и мгновенно занял собой не только коридор, где ему было сложно развернуться, но и всю квартиру. Мне нравилось стоять и смотреть, как этот огромный сильный мужчина раздевается, разувается, отряхивает шапку, осторожно ставит на пол звенящие сумки. Я вдыхал ароматы мокрого пальто, тающего снега, мандаринов и свежего хлеба. Эти запахи и сам тот факт, что к Новому году у нас гости, напоминали мне о чём-то далёком, что никогда уже не повторится.
— Та-ак. Это в холодильник, это можно сразу на стол, мандарины помыть неплохо бы. Артём, ты чего стоишь, как вкопанный, давай разбирать сумки.
— Боже мой, доча, икра. Откуда взял-то? Это же дорого так!
— С ума сошёл, Саш! Ну можно было и без икры, зачем же…
В этом году традиционная процедура обнаружения и распаковывания подарков закончилась неожиданно. По крайней мере, для меня. Помимо привычных конфет и фломастеров, под ёлкой лежала увесистая коробка, завёрнутая так, что у меня не сразу получилось её открыть. Сразу видно, что паковали в магазине. Я догадывался о содержимом, хотя до конца не верил, что это может быть правдой. В коробке лежал настоящий фотоаппарат «Зенит», отделанный коричневым кожзамом. К нему прилагались плёнки и журнал «Советское фото». Я воровато посмотрел на взрослых, мама улыбнулась мне:
— Дед Мороз щедрый в этом году.
— Спасибо, — прошептал я.
Боксёр помог мне вставить плёнку и показал, как пользоваться фотоаппаратом. Весь ужин я, конечно, только и делал, что фотографировал.
Этот подарок знаменовал новый этап в моей жизни. Я теперь был не просто младшеклассником, у меня был фотоаппарат. Если бы он мог сделать меня сильнее… Но это ведь не самое главное. Важно, что он у меня есть. Я даже, наверное, не понесу его в школу, а то Миха может и отобрать.
И ещё мне была приятна мысль, что Боксёр понял, что именно обрадует меня на самом деле. Мама никогда бы не догадалась, а даже если и знала, всё равно не купила бы ничего подобного — слишком дорого. Значит, он не просто так интересуется моими играми и прочим. Значит, я и правда для кого-то важен.
Эта новогодняя ночь затянулась. После курантов мы ещё долго сидели, потом гуляли, затем вернулись домой и снова сели за стол. Мне давно уже хотелось спать, но фотоаппарат делал меня взрослее, поэтому я крепился изо всех сил, чтобы не уснуть прямо за столом. Все быстро запьянели и стали говорить немного странно, растягивая слова, потом пели. Мама включила музыку, и они с Боксёром стали выделывать коленца, изображая танцы. Она вытащила меня на середину комнаты, чтобы я танцевал вместе с ними. Я старался прыгать под музыку, но получалось не очень. «Артём, смотри, как надо», — сказала мама и чуть присела, проводя руками по своим бёдрам и поглядывая на Боксёра. Мне было неприятно смотреть на неё, казалось, она делает что-то стыдное. Я испугался, что Боксёр подумает, будто мама всегда так танцует, и уйдёт от нас.
Я не понимал природы алкоголя. Как-то попробовал водку, она оказалась отвратительной. В «Крокодиле» и по телевизору показывали много карикатур и юмористических передач про пьяниц. Когда на улице нам встречались люди подшофе, мама всегда строила презрительную гримасу и старалась обойти их как можно дальше. Многие психологические беседы, которые она вела со своими подругами, посвящались теме «муж запил» или, наоборот, — «встретила мужчину, работает на стройке, не пьёт». И, наконец, каждый раз после больших праздников мама целый день болела, прикладывая к голове мокрое полотенце, стонала и не вставала с постели до самого вечера. Из всего этого я сделал вывод, что пить плохо, неприятно и неполезно. Но при этом всякий раз история с больной головой повторялась, и это всегда оставалось для меня загадкой.
От танцев меня спасла бабуля: «Доча, ладно вам издеваться над ребёнком, ему уже спать пора». Я с деланым неудовольствием пожелал всем спокойной ночи, лёг в постель и очень быстро уснул.
На следующий день мы с бабулей уехали на дачу, где я должен был провести остаток каникул. Деревня напоминала больничную палату. Всё было чёрно-белым: чёрные остовы деревьев в белых рубахах сугробов, низкое серое небо, полыньи чёрного асфальта, просвечивающие сквозь серый после проехавшей машины снег. Редкие люди в тёмных фуфайках и шапках, везущие санки с дровами или бидонами с водой. Маленькие, утонувшие в снегу домики. Серый дым из труб.
И тишина. Такая тишина бывает, наверное, только в пустыне или тайге. И на даче зимой. Нежданная электричка только подчёркивает её, делая ещё глубже и величественней. Хочется зарыться с головой в сугроб, чтобы заставить эту тишину замолчать, потому что она оглушает тебя, не даёт дышать. Можно натянуть шапку на голову, чтобы слышать биение собственного сердца, дыхание, хруст валенок по снегу. Но даже за этими звуками прячется всё то же безмолвие, и стоит тебе лишь на мгновенье остановиться, как оно поглотит тебя всего.
Приезжая на дачу, я и сам менялся. Приспосабливался к тишине, срастался с морозом. Если летом я раскрывался, как бутон пиона, готовый вобрать в себя всю жизнь, бурлящую вокруг, то зимой я уходил в себя, вмерзал в окружающий мир, как рыба в пруду вмерзает в лёд.
Наш дом был похож на десятки других домов, расставленных на участках в шесть соток по обеим сторонам одинаковых аллей. Если взять набор «Кижи» и на большой плоский прямоугольный кубий положить треугольный, но так, чтобы он покрывал лишь часть основы, легко представить эту стандартную конструкцию.
Летом дом был окружён кустами черноплодки, скрывавшими его от посторонних глаз, под окнами разводили цветник, а остальной участок занимали грядки и парники. Сейчас всё было скрыто под снегом, так что оставалась лишь узкая траншея, которую надо было расчищать каждое утро.
В доме мы с порога попадали в длинную прихожую, служившую летом кухней, столовой и верандой одновременно. Стёганое одеяло стен, оклеенных оставшимися от ремонтов в городе разноцветными обоями переходило в такой же пёстрый дощатый пол, частично покрытый линолеумом. На месте разбитых стёкол в большом витражном окне трепетала на ветру плёнка, к целым же стёклам с двух сторон прилепился белёсый иней. Прорытая в снегу на улице тропинка переходила здесь в такой же узкий проход среди принесённых со двора вёдер и тазов. Было немного странно проходить по этому рву — вроде бы ты в доме, но здесь так холодно, что невозможно выйти без фуфайки.
Холодной оставалась и большая гостиная, где я спал летом. В серванте мёрз дешёвый хрусталь, по обеим сторонам журнального столика с фарфоровой фигурой хозяйки Медной горы стояли два старинных кресла с резными деревянными подлокотниками и бордовой обивкой сидений. И только две комнаты в глубине дома были пригодны для жизни в холодное время года. Зимой здесь было довольно тесно, потому что кроме диванов приносили ещё стол, газовую плитку, а также воду и продукты. Но чем теснее здесь было, тем казалось уютнее, особенно по сравнению с остальными комнатами.
Все зимние каникулы я проводил в одиночестве. Даже в деревне мало кто оставался на зиму, а уж наши соседи-дачники и того подавно. Тропинка от станции обрывалась на нашем доме, дальше начинались необъятные пространства, покрытые снегом, куда до самой весны не ступит ни одна нога. Помимо немногочисленных хлопот по приготовлению обеда, бабуля целыми днями смотрела телевизор или сидела в гостях у единственной подруги (та однажды умерла, оставив бабулю одну).
Но мне вовсе не было скучно. С утра до вечера я строил из снега замки и города, населял их людьми, которые ссорились и устраивали войны, влюблялись и играли свадьбы, вынашивали интриги и боролись за власть.
Это был мой мир, в котором я творил историю. Я был здесь богом, но в то же время сам был этим миром. Я разлетался на десятки маленьких кусочков, чтобы заселить снежные дворцы и стать персонажами, которыми я жил. Я умирал вместе с теми, кто погибал в битвах, устроенных мной же, и рождался заново под сенью сводов ледяных замков. За две недели зимних каникул я проживал столько жизней, сколько другие не могли прожить и за век. Я играл в полном одиночестве, но мне и не нужны были никакие приятели, которые внесли бы сумбур в эту игру, ведь тогда кроме моей воли появились бы ещё какие-то сторонние силы.
Даже теперь, когда эти снежные каникулы кажутся такими далёкими, мне порой хочется снова стать мальчиком в фуфайке и валенках, который строит ледяные крепости и живёт в этой хрупкой стране, обречённой на погибель грядущей весной.
В ту зиму моё одиночество было нарушено самым странным и безжалостным образом. Всё началось утром, когда я, выйдя за ворота, обнаружил, что половина моего снежного города лежала в руинах из-за проехавшего автомобиля. Событие само по себе необычное: до нашего дома зимой никто обычно не доезжал. Я тут же сочинил, что страну настигло ужасное землетрясение, большая часть жителей погибла, в живых осталась только горстка дворян, укрывшихся в храме и спасённых молитвой (собор стоял на сугробе в стороне от дороги). Увлечённый учётом пострадавших и восстановлением города (бедный граф Берёза, от его дома совсем ничего не осталось, так же как и от его молодой супруги), я даже не подумал о том, куда ехала злополучная машина. Работы предстояло много, ведь из утрамбованного колёсами снега было сложно строить что-то новое. Пришлось перенести город на соседнюю аллею. Когда я заканчивал возведение королевского дворца, стоя на коленях, чтобы проложить галерею от одной террасы к другой, брошенный кем-то снежок неожиданно сбил шапку с моей головы. Я поднял голову и увидел существо, похожее на меня, — бесформенную массу из слишком большой фуфайки, шапки-ушанки, рукавиц, шарфа и валенок.
— Привет, ты чё эт тут копаешь? — сказало мне существо звонким голосом, приглушённым шерстяным шарфом.
— Ничего такого. Дворец строю. Вот — машина утром проехала.
— Это мы приехали. А ты чего тут?
— На каникулах.
— И я. У меня родители разводятся, скандалят каждый день, так вот меня отправили к ба-ушке от греха подальше (она именно так произнесла «ба-ушку» — пропустив вторую букву «Б»). Тебя как зовут?
— Артём.
— А меня Ира.
— Хочешь, построй себе замок вон там, у ёлки.
Вообще-то я с девочками никогда не дружил. Были, наверное, какие-то случайности в детском саду, и на этом всё закончилось. Да мне и не очень-то хотелось. Они жили своими интересами, играли в свои игры и, несмотря на то что всё это было мне ближе, чем пятнашки или другие спортивные мальчиковые забавы, я не испытывал желания иметь с ними дело.
У меня, правда, был двор герцогини де Мышек, но в куклы я никогда не играл. (Может, потому что мне их не покупали?) И вот теперь она, Ира.
Когда она принялась за свой замок, я продолжил как ни в чём не бывало копать галерею, размышляя над тем, что принесёт мне это знакомство. Я скорее был раздражён появлением новой приятельницы: придётся вписывать её в мой снежный мир с наименьшим ущербом для самого этого мира. Может, она построит себе отдельный город и будет играть самостоятельно? Иногда можно будет устраивать совместные балы или, наоборот, войны, но в целом не обязательно часто контактировать с соседями. В любом случае надежды на спокойное существование были разбиты. Ира вдруг легла на собственный замок, развела по снегу руки в стороны и спросила: «Умеешь делать ангела? Смотри, что получается». Я понял, что пока она рядом, со снежной страной покончено.
На следующее утро, когда я был занят чаем с бутербродами, бабуля вошла в комнату с заговорщическим видом: «Артём, там тебя какая-то девочка спрашивает», — произнесла она, сделав на «девочке» особенное ударение.
Тон этот означал одновременно массу вещей: «У Артёма появилась невеста» (так потом бабуля сообщила об этом знакомстве остальным); «Захотел держать всё в секрете, но не тут-то было, всё тайное рано или поздно становится явным» — и добавила что-то вроде: «Смотри мне, не балуй там».
Всё это немного покоробило меня, захотелось сказаться больным и остаться дома, но бабуля непременно подумала бы, что я просто струсил, и подняла бы меня на смех.
Ира была моей ровесницей. Резковатая повадками и чертами лица, она напоминала мальчишку с давно не стриженными чёрными цыганскими волосами.
Угольки глаз перебегали с одного предмета на другой, ни на чём не задерживаясь, что делало её похожей на юркого милого зверька. На её мальчишеском лице была одна женственная деталь: её губы. Они жили отдельной жизнью. Большие, яркие, как будто напомаженные (хотя ни о какой косметике в то время речи не шло), они двигались не переставая.
Она то кусала их изнутри, то закусывала нижнюю губу, то шевелила очень активно, когда говорила, то надувала их, то сворачивала в трубочку. На каждое настроение или жизненную ситуацию у её 1уб было своё выражение, они никогда не оставались равнодушными или неподвижными. Эти особенности стали заметны не сразу: всё время, пока мы были на улице, её лицо было наполовину скрыто шарфом и огромной не по размеру шапкой-ушанкой.
С самого утра Ира не только окончательно обрекла мой снежный мир, но и заставила меня делать вещи, совершенно мне не свойственные: — У тебя лыжи есть?
— Нет.
— А кататься-то умеешь?
— Да, в школе учили.
— Ну, пойдём посмотрим, может, у ба-ушки есть.
Мне вовсе не хотелось кататься на лыжах, но никакие отговорки в голову не приходили, так что я поплёлся к ба-ушке. Почему у меня не было дефекта коленок, при котором был бы противопоказан любой спорт?..
Ба-ушка жила совсем недалеко от нас, но в магазин и на станцию ходила по параллельной аллее, так что мы не были с ней знакомы. Участок у них был такой же, как у всех дачников: шесть соток, на которых располагались достаточно большой одноэтажный дом с чердаком, недавно срубленная баня и сарай, где мы и нашли две пары лыж.
— Куда поедем-то? Я здесь не знаю ничего.
— Можно за магазин, а потом в лес за железной дорогой.
— Пойдём!
Куда только ни заносили нас летом велосипеды, но зимой я был так увлечён своим ледяным царством, что отлучался только в магазин и к колодцу. Да и что было делать в лесу, где ты проваливаешься в снег по колено и вокруг ни души. Но если уж и идти куда-то на лыжах, то лес был интереснее, чем аллеи дачного посёлка.
На даче было место, вызывавшее во мне особенные чувства, — опушка леса, зажатая берёзовой рощей с одной стороны и железной дорогой с другой. Она находилась недалеко от деревни, но не была напрямую соединена с полями, и пастухи не доходили до неё, так что здесь всегда было безлюдно. Летом мне нравилось приходить сюда — посидеть в траве и поглазеть на проезжающие электрички. Если смотреть на поляну с железнодорожного полотна, она представляла собой идеальный пейзаж, которым хотелось любоваться ещё и ещё: кромка леса слегка изгибалась, образуя углубление, куда вдавалась поляна, рассечённая тропинкой. Слева вдоль леса протекал скрытый кустами ручей, который выдавали высокие плакучие ивы и пробивавшиеся кое-где камыш и осока. Солнце светило из-за леса, поэтому часть опушки всегда находилась в тени, и тень эта передвигалась в течение дня.
В зависимости от времени года пейзаж был разным. В середине марта — серым и безжизненным. Но за этой мёртвой пустотой угадывалась бурлящая мощь наступающей весны. Снег в такие дни становился коричневым и проседал, так что были различимы холмики поляны. Ничто не двигалось, но всё словно висело на волоске. Невидимые силы подтачивали изнутри снежное спокойствие, готовые прорваться в любую минуту.
Летом полоса белых берёзовых стволов сверкала в ярко-зелёной оправе из листвы и высокой травы. Здесь всё двигалось даже в спокойные безветренные дни. Пейзаж был наполнен жизнью, светом, цветами, запахами и звуками. Сойдя с железнодорожной насыпи, ты становился частью этого мира. Сначала шёл по жаркой душистой траве, потом входил в прохладу леса, пахнущего сырым торфом и муравейником. Иногда приходилось снимать с лица невидимую нитку паутины, под ногами то и дело трещали ломающиеся сучки и, если повезёт, можно найти куст черники или голубики, набрать горсть сочных ягод и разом запихнуть их в рот. Порой я просто стоял наверху, смотрел на опушку со стороны и представлял, что будет, когда я туда спущусь. Поляна манила меня, не хотела, чтобы я оставался безучастным зрителем, но какое-то время мне удавалось противостоять её зову. Рано или поздно я всё же спускался и растворялся в этом летнем хаосе. Иногда я часами ходил сначала по поляне, потом по лесу, представляя, что это парк рядом с моим замком, а я в длинном платье с корсетом прогуливаюсь по заброшенным аллеям. Трава щекотала голые икры, и казалось, это юбки шуршат крахмалом, а ветер дует в лицо, развевая мои длинные золотистые волосы. Я снова был в своём царстве, куда не было доступа никому и где я чувствовал себя в безопасности.
Осенью траву скашивали (косарей я ни разу не видел, будто моя опушка сама сбрасывала с себя тяжёлые летние одежды). Кроме берёз здесь росли разве что несколько скромных молодых ёлок, поэтому осенний пейзаж не был особенно красочным. Светло-серая дымка неба ложилась на жёлтые верхушки деревьев, сменяясь белыми стволами и опускаясь на тёмно-жёлтый покров поляны. Даже когда сильный осенний ветер срывал с веток последние листья, всё оставалось неподвижным. Бели я смотрел на поляну с железной дороги в такие дни, она гипнотизировала меня — порывы ветра, волнение деревьев становились медленнее, а то и вовсе пропадали. Я срастался с этим видом, и мне начинало казаться, что всё это и вправду нарисовано на огромном холсте.
В тот день я впервые пришёл сюда зимой и в первый раз привёл кого-то с собой. Будто обидевшись на меня, опушка стояла растерянная, укрытая девственным снегом, прекрасная в своём одиночестве и нетронутая. Это был редкий в наших краях солнечный день, она искрилась миллионами кристаллов, от которых щурились глаза. Утонувшие в снегу берёзы образовали тёмный альков, за которым таилась бесконечная пустота. Мы остановились на железной дороге (лыжи сняли, чтобы перейти насыпь), я посмотрел на поляну, и снова ощутил, что всё это нарисовано. Казалось, сделаешь ещё два шага — и упрёшься в стену.
— Ну что, дальше-то пойдём? — спросила ни о чем не догадывавшаяся Ира.
— Может, вернёмся? И так уже далеко зашли. Ты не замёрзла? — я подумал, что если мы нарушим покой моей опушки, посягнув на её нетронутый снег, она так и будет стоять до самой осени, обиженная, поруганная, разломанная надвое нашей лыжнёй.
Мы пошли назад. Теперь я был сзади, и мне нравилось скользить, как по рельсам, по утрамбованной лыжне. Иногда Ира нагибалась, быстро лепила снежок, оборачивалась и кидала его в меня, я отвечал тем же, и между нами завязывалась потасовка, которая неизменно заканчивалась тем, что мы оба лежали в сугробе, смеялись, вытирали рукавицами мокрые красные лица.
Потребовалось всего несколько часов, чтобы я забыл своё раздражение и даже начал радоваться тому, что она появилась в моей жизни.
Мы вернулись и пошли к ба-ушке пить чай. Здесь-то я и разглядел Ирины губы, которые вызвали во мне некоторое смущение. На первый взгляд, в них не было ничего неординарного — губы как губы, просто очень большие и полные жизни. Но мне хотелось смотреть и смотреть на них — оставаясь лишь зрителем, который наслаждается объектом своего внимания, но не вступает с ним в контакт. Наверное, я слишком пристально её разглядывал, потому что она вдруг спросила:
— Чего уставился-то. Влюбился, что ли?
Я не нашёлся, что ответить, и просто тупо продолжал глядеть на неё.
— Влюбился, влюбился! Эх ты, жених…
Я никогда не рассматривал отношения с людьми в этом аспекте. Любовь существовала на страницах романов. Её природа была мне непонятна, но я предполагал, что рано или поздно со мной это тоже произойдёт. Я знал — объектом любви может быть только девочка, но внутри всё равно рисовались картины чего-то большого, сильного, нежного и совсем не женского, что должно прийти и поглотить меня, это и будет любовью.
Я знал такие словосочетания как «первая любовь», «любовь с первого взгляда», «страстная любовь» и «безумная любовь». Первые три для меня до сих пор оставались загадкой, последнее мама применяла иногда к каким-то обыденным вещам: «Я безумно люблю жареную куру». Я догадывался, что можно и человека полюбить так же безумно, как жареную куру, но пока не мог похвастаться, что со мной это случалось.
И вот теперь, когда Ира сделала своё смелое предположение, я задумался, что же на самом деле чувствовал, глядя на её губы и, главное, почему это доставляло мне такое удовольствие, что хотелось смотреть на них как можно дольше. В тот вечер я ушёл от неё в некотором смятении. С одной стороны, всё говорило за то, что это и есть любовь. Но с другой — в глубине души скреблось, что это не совсем та любовь, которая была предметом моих робких мечтаний, когда я гулял по летней опушке или лежал, растянувшись в чистой воскресной постели. И уж конечно с такой любовью я не мог оставаться королевой. Надо было выдумать какую-то другую роль, другое поведение и другие мечты. Это всё было невероятно сложно, но мне нравилась мысль, что теперь у меня есть любовь, потому что она, как и подаренный на Новый год фотоаппарат, делала меня взрослым и серьёзным.
Я размышлял, была ли то любовь с первого взгляда, но решил — нет, ведь я не очень обрадовался, когда впервые увидел Иру. Но уж точно это была моя первая любовь! Дойдя до дома, я окончательно утвердился в мысли, что страстно влюблён, хотя первая часть этой идиомы всё ещё не была полностью мне понятна.
На следующее утро я проснулся необычно рано, быстро съел свой завтрак и отправился к Ире. Она ещё спала. Тётя Паня, её «ба-ушка», сказала, что я могу прийти «через часок». Этот часок мне было абсолютно нечем заняться — возвращаться домой не хотелось, а строить что-то из снега казалось бессмысленным. Как и полагается влюблённому, я маялся, ходил вокруг её дачи и думал, что любовь — такая сложная штука, которая непременно доставляет хоть самую малость, но страданий. Даже когда вот так топчешься вокруг дома, где твоя любовь спит, не испытывая ни малейшей потребности тебя видеть.
Наконец, Ира вышла из дому, заспанная и вялая, и спросила: — Ну, что делать будем?
— Не знаю, ты что хочешь?
— Скучно… На лыжах неохота.
— Пойдём на электрички смотреть? Там есть мост, по которому они проезжают, можно под ним спрятаться и ждать, пока она проедет.
— М-м. И что?
— Да ничего, просто смешно…
— Не. Скучно на электрички смотреть. Что я, не видела электричек?
Повисла пауза, после которой Ира произнесла: — Ну. Придумай что-то.
К такой постановке вопроса я был не готов. Раньше меня никто не просил ни о чем подобном, занятия всегда находились сами собой, в крайнем случае можно просто болтаться по даче в ожидании чего-то интересного. Но сегодня Ира, видно, решила поиграть в барыню.
Я смотрел на неё и ждал, что всё разрешится само собой. Либо мне в голову придёт какая-то гениальная идея, либо Ире надоест меня мучить. Но ничего не происходило. Она начала раздражаться ещё больше, в конце концов повернулась и пошла домой, бросив на ходу: «Если что-то придумаешь, приходи».
Я был сражён. Прежде всего, я не вполне понимал, в чём состояла моя вина и чем я заслужил такое обращение. Кроме того, меня поразила скорость, с какой изменились наши отношения. Ещё вчера никто не задавался вопросом, чем мы будем заниматься: мы просто ходили на лыжах, кидались снежками и дурачились. Наверное, я просто не умею правильно дружить, поэтому в городе мной никто не интересуется. А здесь у Иры не было выбора, и вот тебе результат — со мной просто скучно и нечем заняться.
Я вернулся к дому. Рядом с воротами изборождённый колёсами лежал в руинах мой город, хотя за ночь его и припорошило снегом. Заброшенные ледяные галереи грустно смотрели своими мёртвыми проёмами. В этих замках больше никто не жил, остались лишь снежные стены, тосковавшие по человеческой фантазии, без которой их ждёт скорая погибель: с первым же снегопадом они превратятся в бесформенные сугробы. Я принялся было за новые постройки, но быстро бросил это дело. Было скучно и тоскливо.
Я никогда не смог бы стать хорошим другом, потому что всегда был самым слабым. И, разумеется, такая девочка, как Ира, никогда не влюбится в меня. Кроме того, я не только слабый (о чем она пока не догадывается), но и самый скучный. Поэтому меня в любом случае ждёт вечное одиночество.
Не стоило даже тешить себя надеждами, будто из этой любви может что-то получиться. Я так и останусь маленьким, никому не интересным слабаком.
Вот, значит, что такое неразделённая любовь. Придётся привыкать, ведь никакой другой в моей жизни нет и не будет.
Я решил — раз уж делать всё равно нечего, пойду смотреть телевизор.
Может, там идут мультфильмы или «Кортик», который всё время показывали на зимних каникулах, но я так и не посмотрел его от начала до конца.
Когда я разделся и поставил на печку чайник, то вдруг понял, как решить проблему: фотоаппарат! Как же я мог забыть про него?!
Я поиграл с ним один день, но, кроме заснеженных аллей, снимать было нечего, так что всё остальное время он пролежал на книжной полке. Я схватил его, снова оделся и помчался к Ире. За несколько метров до её дома я сменил аллюр на шаг — она не должна заметить, что я запыхался. Но я не успел окончательно отдышаться, потому что мы столкнулись с ней в воротах.
— Ну что? — с чуть наигранной скукой спросила она.
— Вот, смотри.
— Это чего такое?
— Ты что, не видишь? Фотоаппарат!
— Ничего себе. У тебя откуда? — она хотела продолжать играть свою роль, но не могла преодолеть растущее любопытство.
— На Новый год подарили, — ответил я с деланым безразличием, стараясь не выказать ни малой толики гордости, как будто такой подарок был обычным делом.
— А ты и фотографировать умеешь?
— А чего тут уметь?
Вообще-то я не очень понимал назначение дисков, выставлявших выдержку и всё такое, я уже и забыл, как это всё называется. Боксёр объяснил мне тонкости разных видов съёмки, но это было ужасно сложно, так что я просто попросил его установить фотоаппарат на «Зимний пейзаж». Но Ире я всё рассказал с видом знатока. Она, впрочем, запомнила ещё меньше моего — в общем, я не беспокоился, что меня уличат в профанации.
Много лет спустя я понял: в каждом существе женского пола живёт фотомодель, даже если существо это одето в фуфайку и валенки и позирует на фоне занесённых снегом канав. Мы провели весь тот день, снимая друг друга, а потом ещё попросили ба-ушку сделать несколько фотографий, где мы вместе. Ира немного расстроилась, что плёнку нельзя проявить сразу, но мы договорились, что я напечатаю всё в двух экземплярах и отдам ей при встрече летом.
С утра Ира пришла ко мне сама. Бабуля с таинственным лицом впустила её и усадила с нами завтракать. Ира была непривычно спокойной и отстранённой.
Выражение её лица можно было трактовать как скучающее или расслабленное.
Я не знал, что и думать. Будет ли она снова играть со мной, как кошка с мышкой? Если нет, зачем пришла? Или всё-таки фотосессия сделала своё дело?
Весь завтрак мы молчали, иногда односложно отвечая на вопросы бабули: — Вы бы сегодня не гуляли долго-то, а то вон ветер какой, простудитесь.
— Да.
— Что делать-то будете?
— Не знаю.
— Дома, что ли, будете сидеть?
— Наверное.
Я не смотрел на Иру, да и она была слишком занята черничным вареньем.
Позавтракав, бабуля ушла к подруге, оставив нас наедине.
— Будешь телевизор смотреть? Скоро «Гардемарины» начнутся.
Мы устроились на диване и стали смотреть «Гардемаринов», которых знали наизусть. Впрочем, смотрела фильм только Ира, а я снова не мог оторваться от её губ: они опять нервно подёргивались, будто шепча что-то. Я опасался, что она заметит моё внимание и высмеет меня, поэтому не забывал для вида поглядывать на экран телевизора.
Вдруг она развернулась ко мне, глянула каким-то новым глубоким взглядом, улыбнулась, медленно поднесла руку к лицу и спросила: «Хочешь поцеловать?»
Я опешил. Не знаю, обрадовался ли я, потому что не ожидал такого развития событий. Мне нравилось любоваться сё губами, и я не мог себе представить, что можно желать большего. Я не то чтобы не хотел поцеловать её, просто это удовольствие было за гранью моих фантазий.
В общем, я остолбенел — и она приняла это за согласие, потянулась и чмокнула меня в губы. Потом мы стали быстро прижиматься губами друг к другу, не открывая рта, иногда задерживаясь, как это делают взрослые.
Кроме мамы и бабули, меня никто не целовал, а уж в губы не целовали даже они. Эта была очень странная и волнующая близость. Раньше мне казалось, что когда люди целуются, они смотрят и наслаждаются красотой друг друга.
Но я вовсе не видел Ириного лица, но чувствовал её запах, дыхание, тепло. Мне хотелось раствориться, чтобы ни о чём не думать и только лишь наслаждаться непривычными ощущениями.
Наконец, бабуля загремела дверью, и нам пришлось вернуться к гардемаринам. Ира сидела вся красная, я, надо думать, тоже, потому что первыми словами бабули были: «Что раскраснелись-то, как девицы, чудили тут без меня?» Ира смутилась ещё больше, я пробормотал что-то невразумительное и уставился в телевизор.
После фильма мы пошли гулять. Вопроса «чем заняться» не возникало, мы просто бродили по деревне. Больше всего мне хотелось поцеловать её снова, но когда я предпринял робкую попытку (мешали шарфы), Ира отстранилась от меня, проговорив: «Ты что, дурак? Губы потрескаются».
Так мы дошли до самой моей опушки. Я снова не решился спуститься вниз, да и лыж в этот раз не было. Поэтому мы стояли и смотрели на пустынный пейзаж, застывший и умиротворённый. Я робко взял её за руку, и хотя сквозь варежки было сложно что-то почувствовать, мне показалось, что её рука тепло и нежно ответила на моё прикосновение.
Я был счастлив.
Наш роман встал на накатанную лыжню. Ира приходила завтракать, бабуля через некоторое время оставляла нас одних, мы включали телевизор и целовались на протяжении часа или двух. Так же по-детски. Потом бабуля возвращалась, а мы шли гулять. Почти всегда мы ходили на опушку, смотрели на неё несколько минут, держась за руки, и возвращались в посёлок.
Нельзя сказать, что всё шло совсем уж гладко и безоблачно. Если я был определённо влюблён (счастлив или нет — зависело от обстоятельств), то Ира постоянно примеряла на себя разные амплуа. Она могла придумывать что-то новое по нескольку раз на дню, и не успевал я подстроиться под одно настроение, как оно тут же сменялось другим. Иногда ей становилось скучно, и она рано оставляла меня, всем своим видом показывая, что устала от моего занудства. В такие дни я ходил вокруг её дома, надеясь, что её настроение переменится. Надежда моя была настолько слаба, что каждый раз мне казалось — она не выйдет никогда. Я возвращался домой, запирался в холодном сарае и сидел, уставившись в стену, иногда плача, пока не замерзал настолько, что не мог пошевелиться. В другие дни она вдруг становилась загадочной и мечтательной, подолгу смотрела на меня, отвечая на все вопросы лишь улыбкой. Или могла быть роковой, взглянуть и ни с того ни с сего мрачно произнести: «Наверное, я никогда не буду счастлива». Несмотря на то что в таком её поведении не было прямой для меня угрозы, я не ждал ничего хорошего и надеялся, что эта таинственность скоро пройдёт.
Из-за частых перепадов её настроения я падал духом, но готов был всё стерпеть ради тех минут счастья, когда она забывала о своих ролях и просто гуляла со мной или целовала на диване у телевизора.
Однажды на исходе зимних каникул Ира пришла, окружённая ореолом тайны, и весь завтрак просидела с загадочным лицом. Когда мы остались одни, она достала колоду карт и спросила:
— А ты уже делал это?
— Ну, мы с бабулей в дурака иногда играем.
— Сам ты дурак. На вот, посмотри.
Она вынула карты из картонной коробки, и я увидел на них фотографии.
Колода называлась «Августин». Из первых картинок — женщины в длинных платьях стояли спиной к зрителю, образуя круг, — становилось ясно, что это иллюстрации к сказке Андерсена, где свинопас получает плату за свои поделки. Удивляло лишь, что юбки фрейлин задрались и подними ничего не было. Это рассмешило меня. Я рассудил так: они решили закрыть принцессу юбками, забыв, что на них нет нижнего белья. На следующих фотографиях дамы расступались, и мы попадали в центр круга. Тут я, наконец, понял, что имела в виду Ира, спрашивая, делал ли я «это».
У меня было общее представление о том, что происходит между мужчинами и женщинами — всякие там поцелуи, взаимные поглаживания и шёпот на ушко. Я был уверен: если не принимать во внимание, что взрослые делают это ночью в постели, наши отношения с Ирой от них почти не отличались.
Ирины карты кардинально перевернули моё представление о любовных связях.
Я быстро просматривал картинки одну за другой, терзаемый смутным чувством отвращения и некоторого страха, что всё это правда, потому что ведь даже не нарисовано, а сфотографировано. То есть этот мужчина с усами (свинопас) и ярко накрашенная женщина с большой грудью (принцесса) взаправду делали все эти вещи перед фотоаппаратом. Мне было отчего-то стыдно не только за них, но и за себя. С одной стороны, наряду с брезгливостью, я ощущал какое-то необъяснимое удовольствие в разглядывании этих картинок. С другой — было очевидно, что сам я на такое вряд ли способен. Меня раздирали противоречивые желания, вызванные пониманием, что теперь всё навсегда изменится, я стану другим. Мне хотелось бросить карты, не смотреть их — хотя я, наверное, не смог бы в будущем делать вид, будто ничего не произошло. Они притягивали, манили в свой мир, такой чужой и новый.
Ира всё это время сидела тихо, разглядывая картинки вместе со мной, впрочем, было видно, что она уже прежде просмотрела их, и не раз.
— А что, детям так тоже можно делать? — наконец произнёс я. Из всех вопросов, вертевшихся в моей голове, этот был единственным, который можно было высказать вслух.
Моя реакция удивила Иру, лицо её чуть вытянулось, но она быстро опомнилась и рассмеялась:
— Ха-ха. Детям. Нет, малыш, детям нельзя. А ты у нас ещё маленький, да?
Никогда не видел таких картинок? Ну иди мамочку спроси, она тебе расскажет, откуда дети берутся.
Я покраснел и готов был заплакать, поняв, какую глупость сморозил, но сдержался и молча терпел Ирины насмешки, пока вернувшаяся бабуля не спасла меня от этой пытки. Ира спрятала карты, мы оделись и вышли на улицу.
Настроения гулять не было, тем более что она продолжала подкалывать меня. Хотелось остаться одному и всё хорошенько обдумать, но удобного предлога уйти не представлялось, поэтому я ходил за ней, угрюмый и пристыженный, пока ей не наскучило шутить над моей неопытностью. На прощанье она бросила что-то типа: «Ну, раз у тебя нет никаких идей, я пошла домой».
Целый день я прошатался в одиночестве. Помимо технических вопросов касаемо фотографий, меня мучили сомнения по поводу Иры. Раз она так уверенно смеялась надо мной, значит, сама уже делала «это». Ира, маленькая Ира в большой шапке-ушанке никак не подходила на роль женщины с грудью, как я ни старался представить. И уж совсем было неясно с кем.
Не с таким же взрослым мужчиной, как на картах.
Я был абсолютно уверен в одном: даже при нашем обоюдном желании я не смогу повторить увиденное. Это заставило меня ещё острее почувствовать собственную неполноценность. Я понял — моё счастье с Ирой так хрупко, что рано или поздно закончится крахом. Скорее, рано.
Ночью я долго лежал с открытыми глазами, изучая трещины в побелке на потолке. Миллионы мыслей и видений проносились в моей голове. Мужчина с усами и женщина с грудью, Ира, делающая «это» с мужчиной с усами, мужчина с усами один… В конце концов я уснул, но мне по-прежнему снились эти карты, теперь я уже был участником истории с Августином. Вот я стою, окружённый женщинами с задранными юбками, но из-за тканей не вижу их лиц — они просто декорация, а не реальные живые люди. Вот мужчина с усами входит в круг. На нём ничего нет, кроме жилетки свинопаса. Мне страшно опускать глаза, я боюсь того, что могу там увидеть. Со мной должно произойти что-то важное, но я не знаю, что именно, и просто проваливаюсь в глубокий сон, где всё смешивается — чувства, ощущения, порывы тела.
На следующий день Ира пребывала в ореоле грустной таинственности.
Целоваться не захотела (лишнее подтверждение моих вчерашних предчувствий, что нашему счастью конец), после завтрака мы пошли гулять.
Я решил взять фотоаппарат, надеясь, что он защитит меня от новых шуток.
Я снимал деревья и дома, Ира молчала и подолгу смотрела на меня, чему-то мечтательно улыбаясь. Наконец произнесла: — Всё. Сегодня уезжаю в город.
— Как, ещё два дня каникул осталось!
— Меня забирают сегодня.
Потом состоялся один из тех странных диалогов, когда Ира говорила загадками, не имеющими отгадок, а я осторожно пытался вытянуть из неё как можно больше информации. Это была такая игра. Мне были ясны её правила, но одним из них было требование притворяться, что я не вижу Ириного лукавства, потому что в противном случае она могла начать играть во что-то другое, а мне этого очень не хотелось. Мы всегда рады привычному (пусть и томительному) положению вещей и страшимся неизвестности, способной принести облегчение.
Между вопросами и ответами были длинные паузы, и, если не вслушиваться в смысл реплик, можно было подумать, что два актёра ради смеха решили одновременно декламировать две разные пьесы. Иногда эти паузы повисали посреди Ириной фразы, как будто она забыла текст и внимательно смотрит на суфлёра, потерявшего нужное место в книге.
— Как я буду Олегу в глаза смотреть, не представляю.
— М-м. Не знаю. А что случилось?
— Да нет, ничего.
— А кто это Олег?
— Да так, никто… Просто раньше я ему никогда не изменяла.
— И что теперь?
— Что, что… ничего, — молчание, — придётся всё скрывать, — снова пауза, — надеюсь, он ничего не узнает, — она надолго затихла, ожидая моего очередного вопроса, но мне ничего не приходило в голову, — …а то ведь он у меня каратист. Не поздоровится ни мне, ни тебе.
Я шёл с маской отрешённости, будто мне не особо интересно, что она там говорит, но внутри что-то оборвалось. Мгновенно нашлось объяснение всем её странностям, картам, вопросам про «это», умудрённости в плане любви.
Каратист. Я подозревал, что ничего хорошего от сегодняшнего дня ждать не стоит, но такого развития событий не ожидал.
Самое неприятное заключалось в том, что после этого диалога наша дальнейшая прогулка, в общем-то, теряла смысл. По крайней мере для меня.
Но мы всё шли в направлении железной дороги, а значит, моей опушки. Ира время от времени тяжело вздыхала и бросала отрывочные трагичные фразы наподобие «Эх, бедный Олег, он ничего не должен узнать».
Я чувствовал себя униженным, причём несправедливо. Мне хотелось побыть одному, лечь лицом к стене и плакать, но я не находил в себе сил оставить Иру и следовал за ней, как пёс, которому не нравится гулять, но он всё плетётся за хозяином, потому что поводок слишком сильно стягивает шею.
Ира делала вид, что не замечает моего состояния, а вернее сказать, меня.
Ей нужны были уши, чтобы не говорить самой с собой, и никакой ответной реакции не требовалось.
Мы дошли до железной дороги, поднялись по насыпи и стали смотреть на поляну. Начиналась оттепель, снег слегка просел и побурел. Покрытый неприятной ломающейся от прикосновения коркой, он уже не был чистым и ласковым. Свидетельница моего счастья, опушка стояла будто отвернувшись от меня, не желая разделить моё горе. Я хотел было сделать фотографию, но передумал — слишком уж уныло выглядел мой пейзаж.
Я не стал брать Иру за руку, потому что был уверен — одёрнет. Мы постояли немного, пока подъезжавшая электричка не заставила нас сойти с насыпи, и повернули назад.
На перекрёстке рядом с домом Ира бросила: «Ну пока, дальше не ходи». Я был рад, что она отпустила меня, и даже не хотел смотреть ей вслед, но вдруг, повинуясь внезапному порыву, догнал её и надел ей на шею фотоаппарат. Боясь отказа, я сделал всё настолько стремительно, что Ира, не успев опомниться, так и осталась стоять с подарком, я же быстро ретировался в свои ворота. Чтобы не встречаться с бабулей, я пошёл в сарай, заперся там и долго сидел, смотря в одну точку и ёжась от холодного, пропахшего заиндевевшим сеном воздуха.
Наконец, короткие, но насыщенные каникулы закончились. Я вернулся в город. Я не смог бы объяснить этого словами, но ясно понимал — во мне что-то безвозвратно изменилось. Раньше у меня был свой, обособленный от других мир. На даче он превращался в снежное царство, в городе — в герцогский двор. Но колеса Ириной машины, раздавившие ледяную страну, проехались не только по дворцам и замкам. Вместе с ними была разрушена вся моя вселенная, потерявшая для меня всякий интерес. А за её пределами я чувствовал себя ещё более ущербным, чем раньше.
Я больше не играл после школы, мои придворные пылились на шкафу. Сделав уроки, я валялся на диване, задрав ноги на стену и глядя в потолок. Мне было скучно. Когда мама и Боксёр бывали дома, я лежал с книгой и делал вид, что читаю, но если и просматривал за вечер две-три страницы, то ничего не запоминал, мысли мои носились где-то далеко.
Меня одолевала тоска. Сплин, о котором я читал в книгах. Но это был не романтический сплин, заставлявший людей отправляться в дальние страны на поиски приключений, а ленивое расслабленное бездействие, когда сил хватает лишь на то, чтобы размышлять.
Я много думал об Ире. О том, что при любых раскладах мы бы не смогли быть вместе, ведь у неё был Олег. Зачем тогда она всё это затеяла? Было бы глупо предполагать, что её посетила неожиданная любовь — очевидно, что никто не может полюбить такого зануду, как я. Ей просто было одиноко на даче. Безусловно, она коварная девочка, разрушительница сердец, но это не мешало мне любить её. Я с горечью думал, что никогда не буду счастлив, потому что не разлюблю Иру, но при этом понятия не имел, что могло бы заставить её предпочесть меня своему Олегу.
Если бы я жил в одном веке с героями моих романов, то ушёл бы в монастырь и посвятил свою жизнь молитве и воспоминаниям о былой любви.
Но в наше время монастыри были не в моде. К тому же мама вряд ли одобрила бы мой выбор.
Я думал об Олеге. Какой он из себя, победитель-каратист? Может, он вообще старшеклассник. Но даже если и так, это наверняка не единственное его достоинство. Я видел их. Длинных старшеклассников, которые курили за углом школы, играли в футбол, пили пиво. Интересно, когда я подрасту, тоже стану таким? Наверное, нет. Миха и Пень — несомненно, уже покуривают. А я останусь слабаком. К тому же что меняет возраст? Ведь и Олег повзрослеет, поступит в институт, они с Ирой поженятся, и тогда можно навсегда забыть о ней. Впрочем, так далеко мои мысли заходили редко, мне было сложно представить Иру в роли матери семейства и жены — пусть даже и каратиста.
Однажды мама решила устроить очередную фотосъёмку в новых платьях, пошитых из доставшейся по блату дефицитной ткани. Поскольку у нас в семье теперь был фотоаппарат, она не стала просить Боксёра принести свой, но дождалась его, не полагаясь на мой фотографический талант.
Это была тихая ничего не предвещавшая суббота. Я лежал в своей комнате с «Всадником без головы», заставившим меня забыть о страданиях. Мама с Боксёром смотрели телевизор в большой комнате. Суп сварен, хлеб куплен, бельё я обещал отутюжить завтра, так что обо мне должны были забыть до самого ужина. Когда мама позвала меня, я по привычке прислушался к тону её голоса, найдя его расслабленным и даже весёлым — влияние Боксёра.
Наверное, просто хочет попросить меня заварить им чаю или что-то в этом роде.
Я вошёл в большую комнату. Это была парадная зала, где принимались гости, раскладывался праздничный стол (в обычные дни он хранился на балконе в сложенном виде) и где мама проводила выходные перед телевизором. В серванте был красиво выставлен хрусталь, на софе лежали новые красные подушки, с обеих сторон от коричневого деревянного журнального столика стояли два кресла, недавно заново обтянутые цветастой тканью: бежевой с красными маками. Напротив этой композиции — цветной телевизор «Рубин». Боксёр сделал к нему дистанционный пульт управления, провод от которого незаметно тянулся к маминому креслу.
На пульте имелось шесть кнопок для переключения программ, чтобы регулировать громкость, приходилось вставать, но на этот случай у мамы был я. На полу лежал бежевый палас с коричневыми тропическими цветами, стену украшали фотообои с кромкой летнего леса и берегом реки. Они были чем-то похожи на обои в моей комнате, но выцвели от времени и местами потёрлись. На потолке висела мамина гордость — жёлтая (под золото) люстра с прессованным чешским хрусталём. Если сильно прыгнуть прямо под ней, то хрусталь качался и звенел. Правда, один раз я допрыгался — одна из висюлек упала и разбилась, за что мама устроила мне нагоняй.
Они сидели в креслах. Когда я вошёл, оба посмотрели на меня, мама спросила: — Артём, можешь нам фотоаппарат свой дать? Дядя Саша меня поснимает немного.
Вот она, расплата. Сказать, что я забыл его на даче? Всё равно потом узнает, будет ещё больше ругать за то, что соврал. К тому же мне было на руку присутствие Боксёра, может, при нём скандал будет не таким сильным.
— Он потерялся, — глухо ответил я. Мама не поверила своим ушам: — Что?
— Потерялся. На даче. В снегу где-то.
— Так, поди сюда, — я подошёл, мама взяла меня за подбородок и повернула к себе, — ты мне будешь опять врать? Как это «потерялся»?
— Ну так. гулял и не заметил, что он упал, а потом не нашёл.
— Артём, ты смеёшься надо мной, что ли? Ты что такое творишь-то? Как это потерялся? Тебе кто его вообще на дачу брать разрешил? Ах ты, дрянь такая, потерялся он! Тебе для чего его купили, чтобы ты по канавам с ним шлялся?! Что за ребёнок такой, никакого сладу с ним нет, что за выродок?! — мама была так шокирована этой новостью, что даже не стеснялась Боксёра и отчитывала меня, как будто мы одни. Ну разве что ни разу не ударила, что уже хорошо. — Почему ты мне раньше не сказал? Ты думал, дрянь, что я не узнаю, так, что ли? Ты решил ещё и скрывать от меня? Да ты вообще больше никаких подарков не получишь, ни на Новый год, ни на что ещё, если ты так ко всему относишься. Ты что думаешь, люди деньги печатают, что ли? Что всё просто так достаётся? Нет, ты подумай только, и так спокойно говорит ещё мне, что он потерялся! Ах ты сволочь, выродок небесный!
— Ну ладно, зай, что ты кипятишься, подумаешь, фотоаппарат, — сказал примирительным тоном Боксёр.
Это был неожиданный и приятный демарш. Раньше меня никто не защищал.
Разве только папа, да и то в крайних случаях, к которым потеря фотоаппарата не относилась бы. Я почувствовал тёплую благодарность, но немного пожалел Боксёра, зная, что в мамины монологи встревать нельзя.
Она посмотрела на него неодобрительно и продолжила: — А я и не кипячусь. Мне что, это же не мой фотоаппарат. Просто ведь он, зараза, думает, что всё для него тут устроено, что все должны на карачках ползать, лишь бы его удовлетворить, так ведь, Артём? Смотри на меня, когда с тобой разговаривают! Ты что себе думаешь, ты самый важный тут, что ли? Одно потерял, другое поломал, а все остальные должны только новое покупать?
— Ну ладно тебе, зай, перестань, — тихо повторил Боксёр. Мама снова бросила на него грозный взгляд и, видимо, боясь, что он будет защищать меня и дальше, закончила:
— Так, иди с моих глаз, и чтобы больше я тебя не видела. Никаких подарков больше не получишь.
Я был уже достаточно взрослым, чтобы знать цену маминым угрозам, так что они меня вовсе не расстроили. До дня рождения оставалось ещё несколько месяцев, за это время всё забудется. В целом я легко отделался, и Боксёр сыграл здесь важную роль. Если бы не он, мама кричала бы на меня все выходные, а так поругает немного и оставит — историю можно считать исчерпанной.
Я снова принялся за Майн Рида, но через некоторое время услышал знакомое недовольное гудение за стеной. Обычно оно раздавалось, когда мама ругала меня, оставшись наедине с собой: порой не могла успокоиться часами. Но сейчас она была не одна, ей отвечал бас Боксёра. Я стал вслушиваться в их разговор, но мама плотно закрыла дверь, так что слов было почти не разобрать. Доносились лишь отрывки фраз: «Зачем кричать?» — говорил Боксёр, — «Бу-бу-бу сама знаю, как бу-бу воспитывать, бу-бу-бу, не лезь, бу-бу, сколько можно, бу-бу». Мне стало тревожно. Они скандалили из-за меня. Опять я всё испортил, не надо было отдавать Ире фотоаппарат. Или хотя бы соврать, что я забыл его на даче, пусть ложь раскроется позже, но тогда, может, пострадал бы я один. Теперь она будет ругать Боксёра за то, что он защищал меня, а тот, наверное, не станет слушать её молча.
Он-то не знает — чем больше с ней споришь, тем сильнее она распаляется.
Я сел на краю дивана, готовый быстро лечь, если они выйдут из комнаты, ловя каждое слово. Они поругались ещё немного и притихли. Боксёр, кажется, понял, как надо действовать, чтобы успокоить маму.
Этот день стал для меня уроком: нельзя допускать, чтоб тебя защищали, иначе последствия могут оказаться ещё хуже. Я был благодарен Боксёру, более того, почувствовал, что после истории с карате это был ещё один шаг, по-настоящему сблизивший его со мной. Но несколько следующих дней я ходил в тревоге, боясь, что они будут ругаться снова или что Боксёр вообще больше не появится в нашем доме.
В субботу, пару недель спустя, мама позвала меня своим психологическим голосом, от которого я уже было отвык.
Я испугался, что предстоит разговор про Боксёра, мол, у него много работы, поэтому он теперь придёт не скоро. Как обычно в таких случаях, она сидела с видом сивиллы и курила (одна нога поджата под другую, рука с сигаретой на отлёте). Вид её предвещал длинную беседу, так что я внутренне съёжился и приготовился к худшему.
— Артём, я хотела с тобой поговорить, садись, — мама глубоко затянулась, пока я устраивался в кресле напротив, — помнишь, когда ты был маленький, то спрашивал, откуда берутся дети, и задавал ещё много других вопросов, на которые я тебе тогда не могла ответить. Теперь, думаю, пришло время всё тебе рассказать.
От неожиданности я чуть не рассмеялся. Никогда бы не подумал, что мама способна обсуждать такие вещи. Я вспомнил Ирины карты (которые, надо признаться, никогда и не забывал).
После возвращения с дачи я попытался найти больше информации об отношениях между полами, и мои предположения подтвердились. Обрывки разговоров мальчишек в школе, их шутки и ухмылки говорили о том, что всё увиденное мною на даче было правдой. Я сопоставил эти факты с тещ, что знал раньше относительно деторождения, и в моей голове сложилась более-менее полная картина. И теперь мама сидела напротив меня с профессорским видом, как будто решилась, наконец, объявить, что Деда Мороза не существует.
— Видишь ли, тела мужчины и женщины, как ты уже мог заметить, устроены по-разному. Мужчины выше и сильнее, женщины слабее. Тело женщины создано таким образом, чтобы она могла выносить и родить ребёнка. Внутри у каждой женщины есть орган, который называется матка, в нём ребёнок проводит первые девять месяцев своей жизни. Это, впрочем, для тебя не секрет, ты же видел — когда тётя Аня была беременна, её Павлик был у неё в животе.
— Да, мам.
— Но ты, наверное, задаёшься вопросом, откуда же ребёнок появляется в матке у женщины?
— Ну…э…
— Вот тут-то становится понятной роль мужчины. Дело в том, что женщина от мужчины отличается не только наличием матки. Когда ты ходишь в туалет писать, то орган, которым ты это делаешь, называется половым членом. У женщин его нет. У нас вместо полового члена есть впадина, которая называется влагалищем. Так вот, для того чтобы у женщины в матке появился ребёнок, мужчина должен вложить свой половой член во влагалище женщины, — последние слова она произнесла нарочито просто, как будто объясняла задачу по математике: «Если у Кати два брата, а у каждого брата по одной сестре, то в семье три ребёнка. Почему? Потому что Катя является той самой сестрой для обоих братьев».
Несмотря на то что я хорошо представлял себе механическую сторону процесса, мамины термины были для меня в новинку. Я снова подумал про карты и понял, что свинопас вкладывал свой половой член во влагалище принцессы. Почему-то эта мысль показалась мне противной, но я продолжал сидеть с таким видом, будто мама рассказывает захватывающую сказку.
— Тебе пока всё понятно, Артём?
— Да, мам.
— Так вот, когда мужчина вкладывает свой член во влагалище, происходит семяизвержение, то есть он как бы писает, но на самом деле это не моча, а сперма — белая жидкость, в которой содержатся маленькие сперматозоиды.
Эти-то сперматозоиды, соединившись с яйцеклеткой в организме женщины, и образуют зародыш, из которого потом получается ребёнок.
Меня слегка затошнило от всех этих сперматозоидов и яйцеклеток, образовавших в моей голове невнятную массу из невкусных и неприятных слов.
— У мальчиков сперматозоиды не вырабатываются, потому что они ещё не готовы к половым отношениям, но рано или поздно ты поймёшь, что это такое. Это называется период полового созревания. Помимо того что мальчики становятся молодыми мужчинами, есть и негативные стороны, такие как прыщи, например, сложности с характером и прочее. Но нужно понимать — это всё временно, и самое главное — остаться преданным своей семье.
Чтобы мы не стали с тобой врагами, ты должен бороться с собой и не забывать, что я твоя мать.
Мама поговорила ещё про особенности периода полового созревания и трудности в отношениях, а потом, как она часто это делала, неожиданно задала вопрос, выбивший меня из колеи:
— А что там у тебя произошло с девочкой Ирой, расскажи-ка мне? Вы что, поссорились?
Я не знал, что ответить, потому что произошедшее нельзя было назвать ссорой. К тому же это была последняя тема, которую я хотел обсуждать.
— Видишь ли, Артём, первая любовь никогда не бывает счастливой. А в твоём возрасте и подавно. Девочки взрослеют быстрее, поэтому вам сейчас сложно найти общий язык. Но ты не должен переживать, рано или поздно ты подрастёшь и на тебя будут обращать больше внимания. Можешь дядю Сашу расспросить про его детство, когда ему было столько же лет, сколько тебе. Он мне сразу сказал, что вряд ли что у вас получится с Ирой, но так и должно быть.
Мамин пассаж привёл меня в замешательство. До сих пор мне казалось, что зимнее приключение навсегда останется не то чтобы секретом, но чем-то скрытым от посторонних глаз. Мне было немного стыдно, не хотелось, чтобы подробности тех каникул кто-то знал. Но мало того, что стараниями бабули эта тема перестала быть тайной, она ещё и обсуждалась между мамой и Боксёром, будто это была программа телепередач или погода на выходные.
— Мальчик-то наш влюбился. Ира там у него какая-то.
— Ну, в этом возрасте это нормально. Ничего не выйдет у них, конечно, но не страшно, пострадают и забудут.
Неприятнее всего было осознавать, что и у Боксёра есть своё мнение по этому вопросу. Он не должен был ни о чем знать. Я отчего-то стыдился его больше, чем маму или бабулю.
Мы не проводили много времени вместе, не вели психологических бесед, но иногда он заходил ко мне и спрашивал, как дела, как настроение, почему я больше не играю со своими придворными, что я читаю. Сначала мне расспросы его не нравились, как настораживали все вопросы, задаваемые взрослыми, но потом я привык к ним, слыша в них желание подружиться. Оно было неподдельным и потому особенно ценным, ведь обычно я не представлял никакого интереса для взрослых и они общались со мной только чтоб выказать уважение маме. Так гости непременно треплют за ухом хозяйского кота, даже если мучаются от аллергии. Впервые кто-то хотел понравиться мне ради меня самого.
Я боялся, что история с Ирой нарушит этот хрупкий баланс. Безусловно, она была, как выразилась мама, моей первой любовью, но мне не хотелось, чтобы она влияла на мою повседневную жизнь.
Я подумал, что Боксёр теперь перестанет приходить ко мне, потому что решит, что я уже достаточно взрослый, раз у меня была первая любовь.
Или, наоборот (что ещё хуже), станет говорить со мной об Ире или девочках вообще, и тогда с ним станет сложно общаться, как и со всеми остальными.
После этой беседы было о чём подумать. Помимо неприятного чувства, что сокровенное снова стало публичным, этот разговор в его общеобразовательной части не принёс ничего нового. Я даже не могу сказать, что он расставил всё по местам. У меня возникло гораздо больше вопросов, но я боялся их задать, опасаясь новой беседы, которая могла окончиться большими потерями.
Как я должен понять, что наступил период полового созревания? Когда у меня начнёт вырабатываться сперма и что с ней делать? Как определить, что я превратился в молодого мужчину? Самые сокровенные мысли касались всё тех же Ириных карт. После маминой лекции стало ясно — они не были просто постановкой для фотографий, даже мама делала нечто подобное по крайней мере один раз в жизни (и, надо думать, делает до сих пор с Боксёром, только почему-то у них не появляются дети).
Другими словами, это было нормальной стороной отношений между мужчинами и женщинами. Но когда я думал об этом и вспоминал принцессу с задранной юбкой, мне становилось противно и стыдно за свинопаса. Я хотел, чтобы принцессы там не было вовсе — как, впрочем, и её фрейлин. Меня преследовало смутное ощущение, словно со мной что-то не так и я не должен таким образом реагировать на вещи, по всей видимости, обыденные.
Я нашёл-таки простое объяснение своей реакции — просто я ещё не стал молодым мужчиной, а мама не упоминала о том, как должны относиться к этой стороне жизни мальчики. Но ведь Ира тоже отнюдь не была женщиной, а её Августин не шокировал.
В самом начале лета Боксёр пригласил нас на свою дачу в Карелию. Не то чтобы я не хотел ехать к бабуле, но это было хорошее начало каникул. За исключением давнишнего отпуска в Крыму, который я почти не помнил, мы не путешествовали. Правда, каждое лето проводили целый день в одном из дворцовых пригородов, гуляли по паркам, ели мороженое и смотрели на фонтаны. Но со временем эти регулярные поездки превратились во что-то приятное, но заурядное.
Карелия была далеко. Предстояло добраться на поезде до Выборга, потом пересесть на дрезину (я понятия не имел, что это такое) и ехать почти до границы с Финляндией. Пришлось заранее заказывать пропуска — дача Боксёра находилась в приграничной зоне. Только чтобы добраться туда, требовался день, так что это было несравнимо с поездкой в пригород.
Транзит через незнакомый город, близость чужой страны, избранность местности, в которую не каждый мог попасть — всё придавало путешествию ореол новизны и особой романтичности. К тому же это был первый совместный выезд с Боксёром, который, я надеялся, не станет говорить со мной про половое созревание. Мама оживилась перед поездкой и отдалась суете — покупала продукты, собирала вещи и погружалась в долгие телефонные разговоры с подругами об энцефалитных клещах.
Я уже вышел из возраста, когда родителей держат за руки, поэтому шагал между мамой и Боксёром с гордым видом, уверенный, что вокзальная публика смотрит на нас и обсуждает нашу семью, которая направляется не иначе как в Финляндию. Мы купили билеты, нашли свой поезд. Несмотря на то что дорога была не такой уж долгой, я стал мечтать о далёком захватывающем путешествии в дальние страны, полном неожиданных открытий — которое, впрочем, начинается с плацкартного вагона (липкий столик в коричневых пятнах, сломанная шторка на пыльном окне с останками раздавленной осы).
Мама уснула, Боксёр читал газету, а я глядел в окно и представлял, что на мне длинное платье с несколькими нижними юбками, шуршащими при ходьбе. Точнее, я не представлял их, а физически ощущал, расставив ноги таким образом, чтобы мне было достаточно места в моих юбках.
Мимо проходили одетые в дорожные костюмы и твидовые пиджаки джентльмены, а рядом сидел огромный, громкий и жизнерадостный Боксёр, роль которого менялась на протяжении всего пути. То он был моим спутником, оберегающим меня во время долгого и опасного бегства из охваченной революцией страны; то превращался в слугу, оруженосца-телохранителя, неотступно следовавшего за мной; или вдруг я видел в нём некую тёмную личность, похитившую меня из дому и увозившую неизвестно куда и зачем.
Он не заводил разговоров на скользкие темы, ни слова об Ире или неудачах первых влюблённостей. Я был благодарен ему за это и готов был поверить, что он, наверное, лучший мужчина, который когда-либо был рядом со мной, и если бы он не был маминым другом, вполне возможно, мог бы стать моим.
Мы приехали в Выборг. Город было решено посетить на обратном пути, потому что мы опаздывали на ближайшую дрезину, которая мало чем отличалась от электрички, только тащилась очень медленно. Я мог бы оставаться в своих мечтах, рассматривая непривычные пейзажи, если бы вагон не был набит битком так, что мы простояли почти всю дорогу.
В посёлок приехали затемно. Дача находилась на самом краю, и минут сорок мы шли по ничем не примечательным аллеям с домами более новыми, чем у бабули, но всё равно похожими один на другой. Дом Боксёра, достаточно большой, с недостроенным ещё чердаком, стоял последним в ряду близнецов, за ним зияла чернота леса.
Я долго не мог уснуть. Через открытое окно слушал шум ветра в деревьях и думал, как хорошо было ехать рядом с Боксёром, читавшим свою газету. Я мог бы всю свою жизнь вот так следовать за ним, отвечать на его короткие и простые вопросы такими же короткими и простыми фразами и чувствовать, что мы составляем странное, непонятное и весьма неустойчивое, но всё-таки одно целое.
Утром мы пошли купаться на озёра. Лес сильно отличался от того, что рос в наших краях. В нём было не так много кустарника, зато росли высокие прямые сосны, из которых мы неожиданно выходили на большие светлые поляны. Пейзаж походил на фотообои в моей комнате. Под ногами приятно шуршало: тропинка была выстлана сухой хвоей. Казалось, что это не лес, а парк, за которым ухаживает заботливая рука садовника — так здесь было чисто, прибрано, аккуратно. Не торчали случайные кусты, сосны были одинаковой толщины, изредка появлявшийся подъельник производил впечатление только вчера высаженного. Боксёр рассказал, что осенью за пятнадцать минут набирал здесь полную корзину грибов, а рыбы в озёрах столько, что за полдня можно наловить на целую неделю. Видно было, что он знал и любил эти места, хотя дачу свою начал строить недавно. Мы долго шли по тропинке, вилявшей между сосен и оврагов, пока, наконец, за одним из поворотов не появилось озеро. Вода была так спокойна, что казалась покрытой стеклом. Озеро смахивало на ринг, тихий и немного сонный перед поединком, окружённый канатами ив, прикреплённых к столбикам сосен. Было немного боязно приближаться к нему — не хотелось нарушать его спокойствие.
Впервые мы с Боксёром были без одежды. Мне и раньше встречались мужчины в плавках, но в этот раз я чувствовал нечто особенное. Сладко засосало под ложечкой. Я понял, что всегда хотел увидеть раздетым именно его и что большая часть моего возбуждения и радости от поездки исходили именно из предположения, что мы пойдём купаться.
Это было похоже на мои ощущения, когда я подглядывал за тренером карате.
Мне нравилось смотреть на его тело, но я понимал, что это удовольствие запретно, его нельзя проявлять, более того, нужно стыдиться. Причём если в случае с тренером табу было неосознанным, интуитивным, то теперь я знал, что подглядывание за мужчинами жестоко пресекается.
Я украдкой смотрел на него, бросая взгляды на мощное тело. Чтобы разглядеть его всего, требовалось время, я выхватывал то широкие плечи, то необъятный торс, то сильные ноги, чтобы потом сложить в уме общую картину. Мне хотелось бы потрогать эти мышцы, стянутые под белой кожей и игравшие при каждом движении. Он не замечал моего внимания, рядом была мама: вода казалась ей слишком холодной, Боксёр уговаривал её окунуться.
Он зашёл на ринг уверенно, не пробуя воду и не останавливаясь, чтобы привыкнуть, а потом нырнул с головой и показался на поверхности в нескольких метрах от берега. Всё это время я зачарованно наблюдал за его мускулистой спиной и уверенными сильными движениями.
Плавать я не умел, поэтому ходил по илистому дну рядом с берегом, поджимая ноги и по-собачьи барахтаясь. Боксёр звал меня к себе на середину озера, но я только смеялся в ответ и мотал головой. Он подплыл ко мне и спросил:
— Ты чего, Артёмка, плавать, что ли, не умеешь?
— Не-а, — улыбнулся я.
— Да ладно! Это же проще простого! Хочешь, научу?
Я промямлил что-то в ответ — ни да ни нет. Тогда он вдруг поднял меня на руки, посадил к себе на плечи и поплыл. Я обнял его за шею и прижался к нему. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себя на плечах Боксёра. К сожалению, возможности полностью отдаться своим ощущениям не было — робкое удовольствие от прикосновения к чужому телу заглушалось страхом, что мы отплывём далеко от берега и если Боксёр начнёт тонуть, никто не сможет меня спасти. Ровно посередине озера он стряхнул меня с плеч, и я оказался в воде. Он держал меня за руки, а я изо всех сил дёргал ногами, стараясь удержаться на плаву. В моих глазах, видимо, стоял такой ужас, что Боксёр счёл нужным успокоить меня: — Ну ладно тебе, хватит трусить, я же рядом, ничего не случится.
Давай-ка я буду сзади тебя страховать, а ты плыви к берегу. Если не получится, я тебя подхвачу.
Он развернул меня и отпустил. Я поплыл по-собачьи, захлебываясь и дёргая конечностями, как в эпилептическом припадке. Тогда он обхватил меня поперёк живота, как мамы купают младенцев, и принялся учить разводить руки и ноги. Через какое-то время я стал лучше держаться на воде и, хотя плыл медленно, чувствовал себя более уверенно.
На берегу я подумал, что, наверное, просто не создан для плаванья, и Боксёр зря тратит время. Но он смотрел на положение дел более оптимистично: — Ну, для первого раза очень хорошо. Главное, что ты, Артёмка, страх переборол и поплыл. Завтра ещё попробуем, и через неделю ты у меня будешь готов к Олимпийским играм.
Я не очень-то поверил про Олимпийские игры, но меня переполняла гордость за то, что я переборол свой страх. Эти слова было особенно приятно услышать от Боксёра, который не был щедр на комплименты, да и вообще редко давал оценки.
Я снова представил, как наша троица смотрится со стороны, и подумал, что если бы Боксёр не был просто дядей Сашей, который всегда может исчезнуть, мы бы выглядели как счастливая семья на летнем отдыхе, не омрачённом ничем, кроме редких карельских гроз.
Утром я проснулся поздно, долго валялся в постели, наслаждаясь тем, что меня никто никуда не зовёт, и когда стало совсем скучно, спустился вниз, где спали мама и Боксёр. Мама ушла в магазин, а Боксёр лежал в кровати перед телевизором. Он посмотрел на меня, заспанного, и рассмеялся.
— Что-то не выспавшийся у тебя вид, Артёмка. Хочешь, вместе телек посмотрим? Запрыгивай.
Я откинул угол одеяла и лёг.
Я ещё не совсем проснулся и не соображал, что делаю, поэтому только через несколько мгновений до меня дошло, что я снова оказался в необычайной ситуации. Голой ногой я чувствовал бедро Боксёра под семейными трусами — оно было тёплым и мягким. Я смотрел в экран, но ничего не видел, отдавшись ощущениям. Боясь выдать возбуждение, я застыл, как хамелеон в ожидании пролетающей мухи. Все мои мускулы напряглись, ни один не шевелился, я даже дышать старался неслышно. Меня разрывало изнутри, и эта буря была тем сильнее и разрушительнее, чем больше я боялся пошелохнуться. Это было мучительно и приятно. Мне хотелось повернуться к Боксёру и прижаться к нему всем телом. Казалось, что если я лягу на него сверху, а он обнимет меня, я просто растворюсь в нём. Я не находил сил, чтобы встать и прекратить эту сладостную пытку, и если бы мама не вернулась из магазина («Ну, лежебоки, давайте, вставайте!»), моё сердце, наверное, не выдержало бы и разорвалось.
Боксёр встал первым, я снова бросил взгляд на его ноги и ягодицы, но остался ещё ненадолго в постели, боясь, что взрослые заметят моё возбуждение. Потом незаметно проскользнул наверх и оделся.
За завтраком и в течение всего дня я думал о том, представится ли мне завтра возможность повторить утреннее приключение. Я одновременно желал этого и боялся, что мои надежды сбудутся. Вдруг Боксёр заметит мою реакцию? Или вовсе не пригласит меня к себе? Или мама будет рядом, а он постесняется? Почему, впрочем, он должен её стесняться, ведь если он позвал меня сегодня утром, значит, в этом не было ничего предосудительного. То есть когда двое мужчин лежат в одной постели — это не страшно. Но нормально ли моё возбуждение? Или оно стоит в одном ряду с подглядыванием?
Иногда я ловил себя на том, что не думаю об Ире столько, сколько следовало бы, и тогда нарочно погружал себя в меланхолию и воспоминания.
Но у меня не получалось задержаться в этом настроении сколь-нибудь продолжительное время, и незаметно для себя я отвлекался на что-то другое.
В тот день повторились уроки плавания. У меня было меньше возможности хвататься за Боксёра, потому что он хотел, чтобы я плавал самостоятельно, но иногда я смело опираться о его руку, и в этот миг по моему телу пробегала та же дрожь страха, напряжения и удовольствия.
Под конец недели я чувствовал себя в воде более-менее уверенно, стараясь размахивать руками, как настоящий пловец! Мама, впрочем, не разрешала мне купаться одному, но я рассчитывал, что на даче у бабули усовершенствую полученные навыки.
Каждое утро я просыпался с надеждой, что Боксёр лежит один, бегом спускался на первый этаж, ожидая, что он снова пригласит меня смотреть телевизор. Я не знал, можно ли как-то использовать это положение, мне просто хотелось снова ощутить прикосновение его бедра, полежать рядом с ним в мучительном возбуждении. Но случая больше не представилось — либо в кровати лежала мама, либо они оба уже были на ногах.
Боксёр ежедневно заявлял, что ему пора браться за недостроенный чердак.
Но всегда находились вещи поважнее — купание, устройство пикников и походы в магазин на станции, день пролетал за днём, а к стройке так никто и не приступал. Зато мы много времени проводили вместе и под конец каникул ещё больше сблизились. Нельзя сказать, что мы стали друзьями, ведь он всё равно оставался маминым другом, но лёд отчуждённости и недоверия окончательно растаял. Он тоже чувствовал это. Мы часами гуляли по лесу, он рассказывал истории из своей жизни и детства (вырос в деревне в средней полосе, приехал в город после армии). Я был благодарным слушателем: никто из взрослых никогда не говорил со мной просто так, без нравоучений или морализаторства.
Он осторожно задавал вопросы о дружбе с девочками, отношениях с одноклассниками, но по ответному мычанию понял, что я не готов обсуждать эти темы, и больше их не касался, чем необычайно меня радовал.
Маме нравилось это сближение, она часто оставляла нас одних и делала вид, что мы теперь одна семья: «Мальчишки, еда стынет, давайте быстрее мойте руки — и за стол!» — говорила она каким-то киношным тоном.
Летом мне хотелось, чтобы время остановилось и я навсегда остался таким же счастливым и солнечным. Я не думал о сентябре, он был невероятно далёк. Даже тридцатое августа проходило всё в том же пьянящем летнем мороке, и только на следующий день, когда надо было садиться в электричку, на меня наваливалась реальность, я понимал: лето кончилось.
Но та неделя на даче Боксёра оказалась особенной. Границы счастья были обозримы с самого начала, и пусть я просто переезжал с одной дачи на другую, под конец я немного затосковал, понимая, что мне будет не хватать его. Если не считать Иры, которая официально всё ещё была моей первой (и несчастной) любовью, впервые в жизни я ощутил — моё приподнятое настроение, радость и необъяснимое чувство покоя зависят от другого человека, и это всё прекратится, когда его не будет рядом.
Я пришёл к мысли, что хотя Ира и была моей любовью, лучше, когда она далеко, тогда я мог упиваться гордым осознанием того, что я — отвергнутый влюблённый. Боксёр — совсем другое дело. Я радовался, когда мы были вместе, и моё сердце сжималось от безотчётной грусти при мысли, что мы не сможем видеться ежедневно.
В последний перед отъездом день я сидел на крыльце, слушая, как мама напевает что-то на кухне под аккомпанемент шкварчащих котлет, смотрел на прямые сильные сосны передо мной и думал о том, что завтра снова останусь один. Никто не будет учить меня плавать, гулять со мной по лесу, рассказывая немного занудные, но такие настоящие истории. Ира наверняка приедет на свою дачу и станет глядеть с презрением и манерничать, и не найдётся никого, с кем можно было бы гордо пройти мимо её ворот, демонстрируя, что есть на свете люди, для которых я важен.
Мама перестанет быть доброй и начнёт наказывать меня за проступки, на которые здесь смотрит сквозь пальцы. Один. Даже если и случаются в жизни проблески счастья, всё равно они так коротки, и рано или поздно снова остаёшься в одиночестве, что бы там ни говорила мама о мифических единомышленниках, которые со временем непременно объявятся. Я накручивал себя, рисуя безрадостные картины одинокого существования, и окончательно расстроился, тут ко мне подсел Боксёр:
— Ты чего такой тихий, Артёмка?
— Я? Не знаю.
— Случилось чего? Чего ты куксишься?
— Не знаю.
Эти вопросы, заданные так искренно, не вызывали во мне отторжения или желания отделаться от Боксёра, наоборот, хотелось, чтобы он продолжал меня расспрашивать и я был бы вынужден что-то ответить ему, хотя и не знал, что именно.
— Из-за плавания расстраиваешься? Ну, чего тут? Будешь плавать, как чемпион, время просто нужно. Я-то, конечно, с детства плаваю, потому что рос в деревне, но зато что-то другое не сразу получалось. Да, собственно, чем ни занимайся, всё сноровка нужна, а она быстро не приходит. Без труда, как говорится…
— Нет. Не из-за плаванья… — вздохнул я.
— А что тогда? Мама наругала?
— Нет, не ругала…
— М-м. Ну, не знаю тогда, что и думать. Не хочешь говорить, значит, чего такой мёртвый?
— Уезжать не хочется.
— А-а, вот оно что, — протянул Боксёр немного озадаченно, — ну а что такого? В школу-то ещё не скоро. Ещё три месяца будешь на даче прохлаждаться, с дружбанами там со своими на великах гонять!
— Они мне вовсе не друзья.
— Ну всё равно не один.
— Нет. Там буду один.
— А тут-то что? Тут вообще никого нет с тобой играть. Все соседи бездетные. А там, ты же мне сам говорил, есть с кем время проводить.
Тут во мне что-то взорвалось, вырвалось, выплеснулось, как пар из кастрюли, но не сильно, а лишь немного приподняло крышку и снова опустилось. Мне хватило сил только прошептать: — Там вас не будет.
Боксёр не был готов к такому признанию, но быстро справился со смущением: — Во-первых, сколько можно тебя просить мне не выкать? Ты как не родной… Во-вторых, чего ты так насупился. Я же буду приезжать каждые выходные, пойдём с тобой на озёра, а потом, ближе к осени, за грибами.
Чего ты такую трагедию развёл, как будто на войну уезжаешь. Ну! Ладно тебе, перестань, а то я тоже расстроюсь.
Он обнял меня за плечи и прижал к себе. Я уткнулся носом в его подмышку, и слёзы сами собой полились из глаз. Мне было стыдно, что я веду себя, как девочка, и от этого хотелось плакать ещё больше. Он ничего не говорил, просто сидел рядом, обняв меня, и в какой-то момент я уже не понимал, плачу ли я от того, что скоро всё закончится, или от счастья, что я, наконец, не один, а под защитой большого, сильного и нежного мужчины.
Тем летом умерла прабабушка, мать моего деда. Я почти не знал её, потому что она не одобряла женитьбы сына. Бабуля проговорилась однажды (когда была не в настроении), что баб-Аня, как мы все её называли, считала невестку выскочкой, белоручкой и воображалой, кроме того, ей не нравилось, что бабуля похожа на еврейку. С тех пор прошла целая вечность, но отношения так и не заладились. Единственным моим воспоминанием о баб-Ане были её морщинистые мягкие руки (пахнувшие нафталином и старой одеждой), трепавшие меня по волосам, пока я сидел у неё на коленях в один из редких семейных сборов.
Она жила в коммуналке в центре города и была достаточно старой и одинокой, чтобы её смерть никого не расстроила. Её не менее древняя соседка, имевшая, впрочем, виды на прабабушкину комнату, позвонила сразу после нашего возвращения из Карелии и сообщила печальную новость. Я должен был ехать на дачу к бабуле, но упросил взять меня на похороны и вывоз наследства, аргументируя это тем, что я уже достаточно взрослый, ничего не боюсь, обещаю вести себя хорошо и вообще буду полезен, особенно при погрузке вещей. Мама была против, но Боксёр снова принял мою сторону, заявив, что «ребёнок должен привыкать к жизни».
Похороны были скучными. Мы долго блуждали по городскому крематорию, большому жёлтому зданию, похожему на табачную фабрику, пока не нашли нужный зал. По коридорам озабоченно сновали строго одетые люди, обстановка была скорее суетливой, чем торжественной. Прабабушка лежала в гробу, обтянутом голубой тканью с золотыми узорами, стоявшем на постаменте, оказавшимся впоследствии механизмом, отправившим её в небытие. Женщина в коричневом костюме несколько театрально попросила присутствующих попрощаться с покойной, после чего бабуля, мама и я (Боксёр стоял в стороне) по очереди поцеловали прабабушку в лоб.
Я никогда не видел покойников, а уж тем более не целовал их. Мне казалось, они должны были иметь зловещий вид и слегка пованивать, но прабабушка не пахла вовсе и вряд ли могла кого-то напугать. Она была очень белой и странно твёрдой, будто сделанной из гипса или фарфора. Я бы очень хотел увидеть и понюхать её руки, но они были скрыты белым кружевным саваном. Всё произошло так быстро, что у меня не было времени хорошенько её рассмотреть, я потом жалел об этом — когда ещё представится случай посмотреть на труп.
Через пару дней мы поехали за скромным прабабушкиным наследством.
Большей его части предстояло пылиться на дачном чердаке, но не забрать его было нельзя — требовали освободить жилплощадь. Вот это оказалось гораздо более занимательным. Войдя в комнату, я почувствовал себя вором, зашедшим в чужой дом и замершим на мгновение, прежде чем приступить к делу. Окна давно не открывались, стоял прелый запах старости, который невозможно выветрить даже в морозный день.
Вся обстановка напоминала о человеке, что никогда больше не сможет радоваться вещам, окружавшим его при жизни. Покрытые пылью книги; фотографии мужа (моего прадеда) и младенцев (мама и я); бережно хранимый фарфоровый сервиз и другой, керамический (этим пользовались слишком часто). Я подумал о египетских фараонах, которых хоронили вместе с вещами. В школе рассказывали, что в своей загробной жизни фараон не должен был оставаться один, но я думаю, от этого больше выигрывали сами вещи, ведь им дозволялось последовать за хозяином в Страну смерти. Мы же пришли потревожить их многолетний покой и перевезти на новое место, где они скоро забудут о той, кому принадлежали.
Самое интересное открытие ждало меня в платяном шкафу. Помимо старушечьей одежды последних лет, там висели наряды, сохранившиеся со времён её молодости. Нельзя сказать, что это был королевский гардероб, но даже эти немногие вещи, заботливо развешанные на плечиках, заставили моё сердце биться, предвосхищая что-то новое и долгожданное.
Красно-белое вечернее платье в пол для особенно торжественных случаев; голубой пеньюар из искусственного шёлка, достаточно легкомысленный, особенно для того времени; длинное чёрное платье, возможно, купленное на похороны моего прадедушки, а также несколько летних ситцевых платьиц, представлявших для меня меньший интерес — они были не так близки к увлекавшей меня эпохе. По размеру вещей можно было догадаться, что прабабушка не носила всё это уже лет шестьдесят, если не больше, но зачем-то хранила без надежды когда-либо надеть снова. Может, она просто забыла об их существовании? Или доставала из шкафа, чтобы скрасить воспоминаниями одинокие вечера? О чём они шептали ей? О чём может думать девяностолетняя старуха, глядя на шёлковый пеньюар, созданный, чтобы соблазнять мужчин? Какие вечера, полные счастливого смеха и кокетства, приходили ей на ум, когда она открывала эти древние скрипящие створки?
Поражённый, я перебирал одежду, пока мама и Боксёр паковали посуду. Мне вдруг захотелось стать моей собственной прабабушкой. Не белой маской в гробу — а той весёлой юной женщиной начала двадцатых годов, бегавшей на танцы тайком от родителей в этой юбке с тюльпанами. Или серьёзной замужней матроной, надевающей длинное вечернее платье на торжество по случаю повышения супруга по службе. Я перенёсся на шестьдесят лет назад и вместился в её стройное гибкое тело, смотревшееся так эффектно в этой одежде. Я подумал, что если переселение душ существует, то прабабушкина душа должна была войти сейчас в меня (не знаю, куда при этом следовало деваться моей собственной, но в эзотерические вопросы я не вникал).
Было решено ничего не выбрасывать («никогда не знаешь, что и когда пригодится»), а складировать на даче. Я был рад этому решению, потому что боялся за одежду. В моей голове уже созрел план, как её использовать.
Прежде всего следовало получить доступ к прабабушкиному наследству — но так, чтобы никто ничего не заподозрил: я понимал, что мои замыслы не могут поощряться. В один из маминых приездов на дачу я осторожно спросил, можно ли мне поиграть с вещами прабабушки, хранящимися на «моём» чердаке.
Чердак издавна был местом, где я проводил время, раньше — со своими придворными, а теперь читая в одиночестве. Взрослым на него было залезать сложно, для этого пришлось бы лезть по старой приставной лестнице, многие ступеньки которой давно сломались, а другие выдерживали только меня.
На вопрос мамы, что это будут за игры, я ответил, что хочу построить на чердаке свой дом. Объяснение показалось ей достаточно адекватным, так что, взяв с меня обещание ничего не ломать, не бить и упаковать всё к сентябрю, мама дала мне карт-бланш.
На другой день я поднялся на чердак и принялся распаковывать коробки.
Там было много посуды, тут же расставленной для украшения моего жилища; мебели, которая тоже нашла себе применение, других мелочей типа занавесок и скатертей. Но больше всего меня интересовали сокровища платяного шкафа. Я со священным трепетом достал платья и пеньюар, длинные юбки и кофты, тёмно-красное утеплённое пальто и осенний плащ.
Разложив эти сокровища на полу, я долго смотрел на них и представлял, что это лишь малая часть царского гардероба, хранящегося в моей башне.
Я скинул шорты с майкой и натянул на себя чёрное платье. Оно было длиннее, чем нужно, но это было даже лучше, потому что переносило меня в эпоху, когда женщины носили длинные наряды. Мне не требовалось зеркала, чтобы понять, как великолепно я выгляжу.
Я дефилировал по чердаку, всем телом ощущая ткань платья, такого свободного по сравнению с брюками или шортами. Я расправлял полы, имитируя ветер. Я садился на деревянные обтянутые красным бархатом стулья с высокими резными спинками, закидывая ногу на ногу, наслаждаясь непривычным ощущением, когда ты, казалось бы, одет, но ноги свободно касаются друг друга, как будто на тебе ничего нет. Я пытался даже пробежаться, но на чердаке недоставало места, чтобы ощутить ещё и свободу полёта.
Взрослые не могут обойтись без зеркал, проверяя, хорошо ли выглядят, или без фотоаппаратов, останавливая приятные моменты. Мне же было достаточно моих ощущений, чтобы понять — я преобразился и стал новой сущностью. Я больше не нуждался в игрушках, чтобы представлять себя королевой — в этом платье я был ею. Мой чердак превратился в залу укреплённого замка, невозможность выйти на улицу — в заточение, старушечья мебель — в остатки дворцового интерьера, откуда меня изгнали злые недруги.
Единственным, что смущало меня, было отсутствие придворных, способных оценить мой наряд, ведь даже будучи уверенным в своём совершенстве, я нуждался в признании публики.
Я стал наряжаться каждый день, примеряя разные платья и расхаживая в них по чердаку. Иногда часами глядел в маленькое зеленоватое окошко с мутным, треснувшим наискосок стеклом, мечтая о чем-то неясном и туманном. Не то чтобы я грезил о прекрасном принце, который приедет и похитит меня (это вряд ли могло произойти на даче у бабули), но мне нравилось смотреть вдаль, за горизонт между дачных домов, и прислушиваться к собственным мимолётным чувствам и мыслям.
В зависимости от наряда я придумывал себе новые инкарнации и мечтал о том, что могло бы произойти со мной в том или ином случае. Вот я принцесса, которую мачеха прячет от молодого короля, влюблённого в меня до безумия. Или я взрослая, умудрённая опытом женщина, всеми покинутая, отошедшая от света, но всё ещё ожидающая с минуты на минуту чего-то волшебного. Иногда я снова представлял себя своей прабабушкой, какой она была на немногих сохранившихся чёрно-белых фотографиях — красивая, соблазнительная, но строгая и немного надменная, никогда не заподозришь, что в её шкафу спрятан шёлковый пеньюар.
Эти мечты занимали меня так сильно, что я проводил на чердаке дни напролёт, и если бы бабуля не звала меня к обеду, я, наверное, забывал бы и есть.
Наученный прошлыми приключениями, я понимал, что это увлечение, скорее всего, не получит одобрения взрослых.
Я не мог объяснить, почему, но предполагал, что переодевания в прабабушкины платья стоят в одном ряду с подглядыванием за тренером и дрожью удовольствия, пробегавшей по телу, когда я лежал в одной постели с Боксёром. Мне не было стыдно, но никто не должен был об этом знать.
На моё счастье, мне не мешали. Бабуля не могла залезть наверх, даже если бы захотела, а маме и Боксёру на чердаке делать было нечего. Ира проводила каникулы у другой бабушки, чему я был рад: это избавляло меня от продолжения истории, о которой я уже и подзабыл. Жалел только, что нельзя посмотреть отснятые зимой фотографии.
Боксёр, как и обещал, приезжал каждые выходные. Мы ездили с ним на озёра, гуляли по лесу или посёлку, катались на велосипедах. С какой-то нежной радостью я думал о пятницах, немного грустил воскресными вечерами, но уже не переживал так сильно, как в июне. Я забросил своих старых приятелей, потому что выходные были заняты Боксёром, а на неделе я не слезал с чердака.
Однажды, когда никого не было дома, я решил выйти в своём наряде на улицу. Я открыл дверь чердака и встал на пороге. Впервые настоящий ветер раздувал подол моего платья, казалось, я стою на носу корабля, и в лицо мне дует солёный морской бриз. Я постоял так немного, глядя вдаль, но из-за опасности быть замеченным соседями быстро слез вниз. Мне нравилось ходить по огороду, то быстро, то медленно, платье жило новой уличной жизнью. Я наслаждался свободой, лёгкостью и простотой. Я превратился в другого человека. Я вырос, мои длинные волосы развевались на ветру; платье тоже изменилось, стало более пышным и богатым; на моей груди, в ушах и на руках сверкали подаренные поклонниками бриллианты; я был взрослым и свободным, я мог повелевать не только собой, но и всем миром.
Я гулял по просторному французскому парку в полном одиночестве, потому что мне захотелось уединения, но по первому зову ко мне, несомненно, явились бы верные слуги.
— Э! Парниша, чего это делается-то? Ты чего это в баб-Анино тряпье вырядился-то? Ну-ка, живо домой!
Неожиданно вернувшаяся бабуля была шокирована. Я мгновенно принял решение: быть самой наивностью, чтобы не только отвратить возможное наказание, но и оставить за собой возможность вести двойную жизнь и дальше.
— Ну, я просто нарядился, ба. Мама разрешила ведь играть с баб-Аниными вещами…
— Играть-то разрешила, но соседей-то зачем пугать? А что если увидит кто? Стыда не оберёшься. Давай-ка снимай это всё!
Я быстро переоделся, но мне было не совсем ясно, заключался ли в бабулиной отповеди запрет наряжаться вообще или в таком виде нельзя ходить по огороду. Она не поднимала больше этой темы, поэтому чуть позже я решил спросить её сам.
— Да что тебе в этих платьях-то? Почему с мальчишками не можешь пойти поиграть, в пруду покупаться? Взял тоже моду — в женское наряжаться. Да разве это хорошее дело для парня-то? А ну увидит кто? Мать с меня голову снимет, что не углядела.
Но к бабулиному сердцу путь было найти легче, чем к чьему бы то ни было: — Ну бабулечка, ну пожалуйста, что тебе, жалко? Я так просто наряжаюсь.
Я не буду по улице ходить, буду только на чердаке или дома. Я осторожно.
Можно?
В конце концов, она сдалась, потому что вообще редко когда могла решительно отказать мне:
— Ну ладно, только так, чтобы не видел никто. И у матери спроси ещё разрешения.
Сам я разрешения спрашивать, конечно, не стал, но бабуля не могла оставить произошедшее в секрете.
Маме идея с платьями не понравилась.
— Ах ты, дрянь такая! Я ему разрешила играть с баб-Аниными вещами, чтобы дом там строить, а он придумал в платья одеваться! Это что за дом такой?
Ты откуда эту манеру взял? Где ты видел, чтобы мальчики в платьях ходили?! Ты совсем с ума сошёл, что ли? Ты решил нас перед соседями опозорить?! У всех дети как дети, играют спокойно во дворе или на озеро ездят, а этот не может спокойно, всё ему выкобениваться нужно! Сколько же можно мучиться-то с тобой?! И чтобы я не слышала больше ничего о платьях, ни вообще о баб-Аниных вещах, иначе заколочу чердак, и духу твоего там вообще не будет, понятно? И эта тема закрыта, больше не обсуждается. И не вздумай дяде Саше что-то сказать, я не хочу, чтобы он про этот стыд узнал!
Подобные запреты не делали мою жизнь проще, но они не были чем-то действительно жёстким. Просто приходилось делать неразрешённые вещи в ещё большем секрете. Меня смущало только, что даже Боксёр, почти член семьи, не должен был знать о моих «проделках». Это значило, что я снова совершил нечто на самом деле постыдное. Хорошо ещё, что мама ограничилась тем, что отругала меня, а не устроила психологической беседы — вряд ли бы я сумел объяснить свою страсть к переодеванию.
С этого дня я стал наряжаться с большей осторожностью. Я никогда не делал этого по пятницам, когда мама могла приехать раньше, и всегда держал наготове обычную одежду, чтобы быстро переодеться, если меня вдруг позовёт бабуля. Но однажды выйдя на улицу, я уже не мог ограничиваться чердаком. Я чувствовал себя актрисой, которой запретили показываться на публике, хотя, впрочем, ей было разрешено читать роли наедине с собой. Пусть моей публикой были морковные грядки и кусты смородины, но они были нужны мне — как и ветер, придававший столько жизни моему наряду.
Рискуя снова быть пойманным, каждый раз, когда бабуля уходила к подруге, я спускался и гулял по огороду вдоль грядок, не видных ни с улицы, ни от соседей. Я не делал ничего особенного, просто прохаживался туда и обратно в меланхоличной задумчивости, смакуя ощущения. Иногда я заходил в дом и бродил по пустым комнатам. Здесь было больше места, чем на чердаке, я оказывался не в башне средневекового замка, а во дворце или в загородном доме.
Однажды мне на глаза попались бабулины украшения. Они хранились в музыкальной шкатулке в форме фортепьяно. Каждый раз, когда распахивалась крышка, из неё доносилась тема из пьесы Бетховена «К Элизе».
Давным-давно я часто играл с ней: открывал, прослушивал мелодию до конца, потом закрывал — и открывал снова. Незамысловатые звуки зачаровывали меня, к тому же это были аккорды, которые мама часто наигрывала для гостей на пианино и которым я со временем тоже научился (правда, исполнял только правой рукой). Шкатулка давно сломалась и молчала, но иногда мне нравилось открывать её в ожидании, что рано или поздно она снова запоёт. Удивительно, что я совсем забыл о её существовании, ведь она была полна прекрасных вещей, делавших мой наряд ещё более царственным, а самое главное, правдоподобным. Кольца (которые мне были как раз в пору, такие худенькие были пальцы у бабули), колье и даже клипсы (они были тяжелы для моих маленьких ушей, то и дело сваливались, так что приходилось носить их осторожно, держа голову неподвижно).
Увлечённый этим открытием, забыв обо всём на свете, я отыскал в шкафу мамину дачную косметичку — красный кошель в форме саквояжа с потрескавшейся и местами облезшей кожей, который пах разлитыми духами и пудрой. Я достал румяна, помаду и накрасился, как сумел. Ногти я красить не стал — не успел бы быстро стереть лак, но и остальной косметики было более чем достаточно.
В прихожей стоял комод с большим зеркалом, перед которым я проводил немало времени, любуясь собой. В этот раз я был сражён величественностью своего наряда. Как многого можно добиться с помощью простой бижутерии! В зеркале старого комода отражался не мальчик в розовом платье с криво намазанными губами и красными щеками, а прекрасная королева, властительница умов и повелительница сердец. Я медленно и осторожно (чтоб не упали клипсы) поворачивался то вправо, то влево, наслаждаясь солнечным лучом, игравшим золотой цепочкой на моей груди.
Внезапно стукнула входная дверь, сердце упало: бабуля! Бежать было поздно и некуда, да и разорённая шкатулка стояла посреди комода. Я повернулся, готовясь просить прощения и обещать, что это был последний раз, только бы она не рассказала маме. Ничего этого говорить не пришлось.
Передо мной стоял ошарашенный Боксёр. Между нами вдруг образовалась та звенящая тишина, которую в других обстоятельствах назвали бы штилем перед бурей. Мы оба чувствовали натянутость этого безмолвия, но боялись нарушить его. Казалось, даже мухи перестали жужжать, а вся деревня замерла. Оба маминых запрета, нарушенные одновременно, волновали меня не так сильно, как стыд перед этим человеком (который ведь не должен был приехать в середине недели, в неурочное для него время!). Второй раз он застал меня за чем-то позорным, чему не было ни объяснений, ни оправданий.
Тишина неожиданно разрядилась глухим стуком об пол: упали обе мои клипсы, тук — правая, тук — вторила ей левая. И вдруг открытая шкатулка прохрипела после стольких лет молчания несколько бетховенских нот. — Ну ты, парень, даёшь. Ты чего это? Разбитая этим восклицанием, тишина взорвалась внутри меня — к горлу подкатило что-то тяжёлое, я всхлипнул, а потом вдруг захлебнулся в рыданиях. Я подобрал полы платья, выбежал на улицу мимо Боксёра, который и не пытался меня остановить, быстро взобрался на чердак и залез в дальний угол, где меня было трудно отыскать. Там я долго сидел, размазывая кулаками слёзы и румяна, уткнувшись головой в обтянутые платьем колени, и думал, что теперь-то всё точно кончено. Я — самый грязный мальчик на свете; меня все презирают и стесняются. Я — наказание для мамы и бабули, и вот теперь Боксёр смог в полной мере понять, с кем он живёт практически под одной крышей. Если история с карате не раскрыла для него моё истинное лицо, то теперь-то он наверняка перестанет со мной общаться.
Боксёр какое-то время звал меня снизу, потом поднялся наверх, открыл дверь чердака, но залезать не стал. Я затаился. Он спустился, и через некоторое время я услышал, как захлопнулись ворота. Никаких звуков снизу больше не раздавалось. Я понял, что он ушёл.
Открытая шкатулка бабулю не удивила бы, потому что я и раньше иногда брал её без спроса. Но то, что мне удалось избежать проблемы сейчас, ничуть не отвращало катастрофы в будущем. И бабуля, и мама скоро, конечно, обо всём узнают, и возмездие не заставит себя ждать. Помимо того, что я потерял расположение Боксёра, я ждал, что чердак заколотят, меня увезут в город или даже отправят в лагерь. Что может быть хуже лагеря?
Ожидание наказания давило, я не мог ни минуты прожить, не думая о нём.
Была лишь среда, мама должна была приехать в пятницу вечером. Мне хотелось, чтобы пятница наступила скорее, тогда, по крайней мере, можно будет освободиться от мучительной неизвестности. Два дня протянулись в бредовой прострации. Я сидел наверху, но не наряжался, суеверно боясь прикасаться к платьям.
Я был на чердаке, когда хлопнули створки ворот, и мама с бабулей начали что-то оживлённо обсуждать. Хотя я ждал этого момента, я не мог пошевелиться от страха. Я знал, что буря грянет сразу, как только я покажусь маме на глаза. Знал, что она знала, что я прячусь, потому что боюсь этой бури, именно это обычно раздражало её ещё больше — но ничего не мог поделать с собой. Я ждал, пока она позовёт меня и будет невозможно оставаться в укрытии. Но, к моему удивлению, обо мне будто забыли. Это пугало ещё больше. Может, она решила не подавать виду, что ей обо всём известно, и ждёт, пока я признаюсь сам? А потом, когда я ни в чём не признаюсь, будет ещё больше ругать меня за то, что я решил хранить что-то в секрете, ведь «всё тайное рано или поздно становится явным». Или она не будет ругаться вовсе, а ждёт удобного момента для психологической беседы? Чем может обернуться для меня такая беседа, можно было только догадываться, но я бы предпочёл скандал или даже подзатыльник, чем обсуждение причин моего поведения.
В конце концов, бабуля позвала меня ужинать. Несмотря на опасность того, что мама ждёт явки с повинной, я решил делать вид, будто ничего не произошло. Она, видно, тоже играла в эту игру, была со мной необычно ласкова, и вопрос о том, что я делал всю неделю, прозвучал вполне буднично, без тени угрозы или сарказма и даже с ласковыми интонациями, звучавшими обычно в присутствии гостей.
Во время ужина я сидел молча, уткнувшись в тарелку, и ждал, когда же, наконец, поднимут тему, которая должна волновать всех больше всего. Мама говорила, что из магазинов пропал кофе и теперь, наверное, надо покупать цикорий, бабуля отвечала, что у неё ещё осталось пять банок, так что, может, хватит, но вот, говорят, риса скоро не станет, надо бы закупиться впрок.
На меня никто не обращал внимания, пока под конец ужина мама не спросила: — Артём, а ты что это смурной такой? Случилось что?
При всех возможных нюансах маминой тактики она не должна была задавать этот вопрос. Если ей известно, что случилось в среду, моё мрачное настроение не должно казаться странным. Если она интересуется им и, кажется, делает это вполне искренне, значит… она ничего не знает!
Я пробурчал что-то про боли в животе, на что мама снова отреагировала крайне странно. Самым что ни на есть нежным голосом она сказала: «Живот болит, бедный, ну пойди, полежи. Если не пройдёт, выпей полыни».
Всё это было необъяснимо и странно. Дело было не в предложении отдохнуть (все привыкли к тому, что у меня время от времени болел живот), а в интонации, с которой это было сказано. Мама играла какую-то необычную роль, но меня не оставляло чувство, что она уже игралась раньше. Я безуспешно пытал память в надежде вытащить на свет, когда и где мама говорила со мной так, но она не давалась мне, подбрасывая лишь жалкие намёки вроде тёплых прикосновений пыльного солнечного луча к щеке, от которых почему-то накатывала необъяснимая слабость, под коленками становилось щекотно, но воспоминание так и оставалось в дымке, не принимая отчётливой формы.
Я вышел из-за стола, лёг на диван в соседней комнате и первый раз за вечер расслабился, дремля под бесконечный диалог о чулках, докторской колбасе и стиральном порошке — пока меня, наконец, не огорошило: Боксёр не приехал! Погружённый в свои страхи, я даже не заметил, что первый раз за лето мама приехала одна.
Где мне, впрочем, было думать о Боксёре, когда весь вечер я прислушивался к маме, стараясь услышать отсветы грядущей грозы. Но их там не было и не могло быть — она играла любящую мать, которая боится расстроить своего ребёнка. Вот что это мне напоминало! Такое было уже несколько лет назад, когда на дачу перестал приезжать папа. Конечно, как же я сразу не догадался!
Я с предательским облегчением подумал, что Боксёра постигла та же участь, что и всех его предшественников, и он просто не успел или не захотел ничего рассказывать маме. В известной степени, эта ситуация была мне на руку, ведь из преступника я превращался в жертву.
Я встал и с ещё более грустным видом пошёл пить настойку полыни, хотя живот у меня вовсе не болел. Спрашивать маму о Боксёре я, впрочем, поостерёгся — вдруг она просто забыла о том, что он рассказал ей, а я своим вопросом нечаянно обо всём напомню.
В эту ночь я уснул спокойно, с мыслью, что меня миновала большая беда.
Но проснулся я со смутным чувством тревоги, не отпускавшим меня все последующие дни. Почему он не приехал? Неужели просто исчез, так же как и другие мамины мужчины, и я никогда его больше не увижу? От этой мысли сердце сжималось, и мне хотелось свернуться калачиком и поплакать. И почему мама ничего не сказала? Неужели я снова останусь один?
Кроме того, меня волновала причина, по которой он исчез. Я не знал, почему пропадали другие, да меня они и не особенно интересовали. Их всех что-то объединяло, но это не имело ко мне отношения. Мир взрослых был недоступен, так что не стоило и пытаться понять, по каким законам он живёт. Но так ли всё просто обстояло сейчас?
Я старался не думать об этом, но где-то глубоко таилось страшное, о чём я мог только догадываться, потому что всё равно никогда не узнал бы правды. Но сколько я ни таил от себя это знание, оно всё равно прорывалось: Боксёр ушёл из-за меня.
Каждый день придавал мне больше уверенности, что во всём виноват только я. Кто захочет жить с ребёнком, с которым явно что-то не в порядке. К тому же Боксёр ничего не мог со мной поделать, он ведь не был моим отцом и не имел права меня наказывать. Потому-то мама и не хотела, чтобы он что-то узнал. Ему, наверное, стало за меня стыдно, и он решил оставить нас, чтобы найти женщину с другим, нормальным и хорошим мальчиком.
Во мне таилась надежда, что он ушёл на время, но скоро поймёт, что скучает по мне или по маме, и вернётся. Ведь не мог он просто пропасть после поездки в Карелию, уроков плавания, шашлыков, а самое главное, после того как мы сидели на крыльце его дачи и я плакал, уткнувшись ему в подмышку.
Дни проходили за днями, он не появился и на следующие выходные, его имя не произносилось, будто его никогда и не было. Я анализировал произошедшее и в итоге пришёл к выводу, что поскольку Боксёр умел хранить секреты и даже скрыл историю с карате, в этот раз он просто решил проучить меня своим отсутствием. Вместо того чтобы рассказать всё маме, которая, несомненно, отругала бы меня, он решил показать мне, что будет, если я не оправдаю его доверия.
Судя по спокойствию мамы, по тому, что она не проводила со мной психологической беседы, он придумал какой-то предлог, чтобы не появляться на даче.
Мне потребовался не один день, чтобы прийти к такому заключению, но когда я поверил в это, мне стало гораздо спокойнее. Я получил ответ.
Теперь я стану хорошим, не буду делать ничего постыдного, тогда Боксёр и все остальные поймут, что я переменился, и всё снова будет, как раньше.
Прежде всего я убрал все платья в тяжёлый деревянный обтянутый скрипучим кожзамом чемодан и вообще стал реже лазать на чердак. К бабулиному радостному удивлению я снова стал кататься на велосипеде, хотя к своим старым приятелям не вернулся: они привыкли обходиться без меня. Сначала было немного скучно, но потом я вошёл во вкус, и мне всё больше нравилось одному ездить по незнакомым аллеям, заезжая в места, куда я никогда не дошёл бы пешком. К тому же это не мешало мне думать о произошедшем и окончательно утверждаться в своей догадке. Более того, раскрыв педагогическое коварство Боксёра, я мог предсказать дату его возвращения — конечно, это первое сентября, когда я вернусь из школы!
Каждый день находились всё новые доказательства моей теории. Вот, например, когда он звал меня снизу, а я не откликался с чердака, он хотел поговорить со мной, а после, уезжая в раздражении, придумал это своё необычное наказание. Я не должен был тогда сидеть в укрытии, и вопросы не мучили бы меня сейчас! Потом он не мог довериться маме, которая ни за что не сдержала бы тайны. Так что он или уехал на свою дачу, или отговаривается работой. Или вот обычно я приезжал в город 31 августа, чтобы подготовиться к первому сентября, а в этом году у мамы были какие-то дела и было решено, что я вместе с бабулей приеду первого на самой ранней электричке — они так, несомненно, устроили, чтобы я не пересёкся с Боксёром раньше времени. Ну и эта мамина ласковость, не сулившая обычно ничего хорошего, была просто приподнятым настроением на выходных. Она-то знала, что Боксёр никуда не делся, поэтому с чего бы ей расстраиваться.
Никогда я не ждал первого сентября, как в этом году. Я проснулся на час раньше, чем нужно, и лежал с открытыми глазами, представляя свой сегодняшний триумф. Я думал об этом и в поезде, и по дороге в школу. Я ведь был хорошим в течение почти целого месяца и, конечно, останусь таким и дальше. Боксёр обязательно должен оценить мои усилия. Может, он даже подарит мне новый фотоаппарат взамен того, что я отдал Ире.
В этот раз я быстро вручил цветы классной и пулей бросился домой, так что мне удалось ускользнуть от одноклассников, которые были бы рады снова опустить меня в канаву.
Солнце светило так ярко, что приходилось жмуриться. Оно тонуло в белых стенах домов, отражалось от оконных стёкол, заливало счастливым светом дворы, через которые я бежал. Как будто природа была тоже рада возвращению Боксёра. Я взлетел по лестнице, не став ждать лифта, открыл дверь — и моё сердце забилось быстрее от того, что я с порога услышал мужской голос. Я был прав! Он вернулся, он знает, что я исправился!
Теперь мы заживём по-новому, совсем по-новому. Я быстро разулся и ринулся в комнату, споткнулся о ковёр и полетел на пол под общий смех.
Все продолжали смеяться, пока я нарочно неуклюже вставал — но потом они вдруг замолчали, в воздухе повисла странная тишина.
Я как будто погрузился под воду, не в состоянии думать, слышать, говорить.
За столом сидел мужчина. Но это был не Боксёр. Я даже не видел, кто это, потому что кем бы он ни был, он всё равно был не тем, кто был мне нужен.
От неожиданности я застыл, переводя взгляд то на него, то на маму, пока она не нарушила молчание: «Артём, знакомься, это дядя Слава».
История 2. Любовь
Третье, четвёртое, пятое, шестое ноября тянулись медленно, как кусок замазки, которую оторвали от рамы и раскатывали в пальцах. Я лежал на софе, задрав ноги на стену, и смотрел в потолок. За окном непрерывно шёл дождь, день превращался в нескончаемые сумерки. Серая мгла вползала в комнату, окутывая меня и мебель, укрывая туманом мысли, чувства, желания и мечты. Не было больше ни мыслей, ни чувств, ни мечтаний — ничего, кроме тупого созерцания. Я превратился в клочок тумана, балансирующий в комнате. Если бы я был человеком, то, наверное, уснул или умер. Но я был облаком, сгустком испарившейся воды. Минуты текли одна за другой, похожие друг на друга. Время, которое нужно было убить, умирало само — секунда за секундой, день за днём.
Вот уже два года я почти не ходил в школу. Не то чтобы меня освободили от занятий, просто в какой-то момент я понял, что это бессмысленно. Я освободил себя сам. Я понял, что у меня нет друзей и они никогда не появятся; что я должен постоянно следовать годами выработанным правилам, цель которых — избежать встреч с одноклассниками, не прекращающими придумывать новые шутки и игры, где я неизменно оказывался проигравшей стороной; что я был не белой вороной и гадким утёнком (какие там ещё птичьи сравнения придумывала мама?), а просто самым слабым мальчиком в классе, и эта расстановка сил с годами не менялась, а становилась всё более жёсткой; и, наконец, всё это ради того, чтобы исписывать одну за другой тонкие и толстые тетради и получать пятёрки.
Уроки никогда меня не интересовали в полном смысле этого слова. Новую, важную для себя информацию я черпал из книг, и единственным предметом, вызывавшим во мне неподдельный живой интерес, оставалась литература.
Математика, физика, химия, биология были попросту барщиной, которую приходилось отбывать в стенах школы. Мне даже не было скучно, у меня вообще по отношению к учёбе не возникало никаких эмоций, как не может вызывать чувств необходимость чистить зубы или утюжить форму. Я ходил на уроки и делал домашние задания, потому что так повелось, так было нужно и я к этому привык.
Давным-давно мне нравилось, если мама хвалила меня за пятёрки (впрочем, делала она это крайне редко), и я боялся наказания, неизменно следовавшего за плохими оценками. И вот наступил момент, когда что-то сломалось. То ли она потеряла интерес к моей школьной жизни, то ли я вышел из того возраста, когда наказывают за оценки. А может, перемены, произошедшие в стране и заставившие всех заняться поиском хлеба насущного, не оставляли ей времени и сил следить за моими успехами (вернее, неудачами). Если тратишь большую часть своей энергии на то, чтобы дома был суп (хотя бы и без мяса), невозможно ещё и проверять дневник, где всё равно зияет пустота.
Нет, я не был заброшенным ребёнком. Ни один родитель не расписывается в дневнике еженедельно, а маму интересовала лишь страница с оценками за четверть. О том, что пришла пора её проверять, ей напоминали каникулы.
Они перестали быть долгожданными, как в детстве, мало чем отличаясь от будней. Когда они приближались, мама заводила разговор о том, как дела в школе. Мне приходилось показывать дневник, где среди троек проглядывали редкие двойки, мухоморами торчавшие на поляне среди сыроежек.
Последующие несколько дней в нашем доме царила атмосфера скандала.
Казалось, что произошла утечка газа, все знают об этом, но, тем не менее, не открывают окон, а просто не пользуются электроприборами и не курят. После работы мама ходила по квартире, что-то бубня про себя. Я прятался в своей комнате и даже в туалет старался ходить реже, чтобы не попадаться лишний раз на глаза. Но атмосфера всё больше и больше насыщалась газом раздражения, так что малейшая искра производила неминуемый взрыв. Эту искру могло высечь любое моё действие. К примеру, застав меня на кухне наливающим чай, она вдруг начинала кричать: — Чаи он распивает, посмотрите на него! А уроки ты когда будешь делать, дрянь такая? Ты откуда вообще взялся такой ленивый? Ты сколько будешь издеваться надо мной? Как так можно учиться на одни тройки, я не могу понять? Ты что идиота из себя строишь? У всех дети как дети, нормально учатся, а ты один задницей пошевелить не хочешь!
Мама, конечно, не догадывалась, что тройки достаются мне с большим трудом, ведь ради них всё же приходилось показываться в школе. Но поскольку она уходила из дому раньше меня, а возвращалась позже, она понятия не имела, чем я занят целыми днями.
Не знаю, когда именно изменилась моя жизнь. Сначала я стал пропускать первые и последние уроки. Первые — потому что тяжело просыпался, последние — чтобы избежать нежелательных встреч. Потом я понял, что хотя мои прогулы и влекут за собой некоторые сложности с оценками, но в целом ничего катастрофического не происходит. Каждый раз я придумывал причину — проспал, плохо себя почувствовал, заболел, но справки нет, врача решили не вызывать. Учителя смотрели сквозь пальцы на мои истории — наверное, собственный суп был для них важнее, чем моё образование. Если по какому-то предмету у меня что-то не получалось или урок оказывался нудным — я пропускал и его. Со временем в этот «чёрный список» вошли все школьные предметы.
А потом я обнаружил, что пролежал на диване целую неделю и ничего не случилось. Небо не разверзлось, директор школы не позвонил маме, на моём лице не проявились признаки дебилизма, и поскольку у меня не было друзей, меня никто не хватился. Таким образом, я стал посещать ровно то количество занятий, которое позволяло мне не остаться на второй год, большую часть времени проводя дома.
Этот учебный год начался с того, что нам объявили о грядущем распределении учеников — школа становилась экспериментальной. На основании годовых оценок и специальных экзаменов каждого из нас зачислят в один из классов: литературный, физико-математический и просто класс — класс «В». Я понял, что если буду и впредь лежать на диване, то кроме класса «В» надеяться мне не на что. Это обстоятельство меня не смущало — какая разница, под какой буквой не ходить в школу. Но тот факт, что мои мучители останутся рядом со мной, заставлял задуматься. Ни в один из классов «с уклоном» они не попадут — в этом я не сомневался, зато у меня появился шанс оторваться от них.
Хотя до распределения оставалось два года, я стал чаще ходить в школу.
Сначала с ленцой, нехотя ломая устоявшийся ритм, а потом всё больше втягиваясь в процесс. Учиться было несложно, даже если учесть, что я много пропустил. Приходилось снова исписывать тетради, читать учебники, а чаще всего просто присутствовать на уроках. Так или иначе, через несколько месяцев я из троечника с натягом (натяг выдавался за хорошее поведение) перешёл в разряд если не отличников, то крепких хорошистов.
Случались, правда, дни и даже недели, когда мне казалось — всё зря, и не важно, в каком классе я буду учиться, это ничего не изменит. Да, Миху и компанию отправят в «В», но вовсе не обязательно, что в моём «А» (я хотел попасть в литературный класс) у меня появятся друзья. Впрочем, такие приступы тоски случались нечасто — в основном, после очередной издёвки.
Мечта попасть в литературный класс не была случайной. Одна из бесспорных заслуг мамы состояла в том, что я начал рано читать. Не знаю, объяснять ли это только лишь её образовательным террором, который тащил меня в кандалах и на крепко скованной цепи в мир знаний, или же тяга к чтению была заложена во мне на генетическом уровне — правда в том, что с самого раннего возраста я проводил много времени с книгами. Мама же, хотя и обучила меня мудрёному искусству складывать слова из букв и предложения из слов, дальше не пошла, и практически всё детство я беспорядочно читал всё, что попадалось под руку. Искания в какой-то момент привели меня к Морису Дрюону, которого я заучил почти наизусть и которым были проникнуты мои игры. Но со временем они отошли на второй план, так же как и сам Дрюон, а я стал поглощать макулатурные собрания сочинений Бальзака, Доде, Дюма и Майн Рида, красиво расставленные на полках в моей комнате рядом с неподъёмными томами про разведчиков и ударников социалистического труда. Не могу сказать, что чтение это было сколько-нибудь осмысленным — мне не с кем было обсудить прочитанное, сделать выводы или соотнести книгу с соответствующей эпохой или стилем.
Школьная программа начальных классов не вызвала во мне бурного отклика, так же как и более поздние авторы. Фонвизин, Карамзин, Крылов и даже Пушкин вызывали зевоту. Впрочем, я проглатывал и эти книги, но если в свободное время читаешь «Милого друга», вряд ли даже «Вечера на хуторе близ Диканьки» способны тебя расшевелить.
Но вот однажды у нас появилась новая учительница литературы. Вернее, она давно работала в школе, и в какой-то момент мы до неё доросли. Язык не поворачивался называть её «русичкой», хотя и её не оставили без прозвища, но звали уважительно, по отчеству — Вадимовна.
Вадимовна была молодой женщиной лет тридцати пяти с еврейскими или кавказскими чертами лица, полными чувственными губами, большими чёрными глазами и длинными смоляными волосами, зачёсанными назад. Она любила носить обтягивающие шерстяные платья, плотно облегавшие её тонкую девическую фигуру и маленькую грудь. Она ходила, чуть выгнув спину, как разозлившаяся кошка, ступая твёрдо, но очень грациозно. Она вся была пропитана этой неудовлетворённой, но живой женственностью, заставлявшей её то приседать на край парты, то складывать руки у подбородка, когда она слушала стихи, то облокачиваться рукой о стол и выгибаться так, что казалось, ещё чуть-чуть — и она переломится надвое. Когда она писала на доске, её длинные пальцы изящно держали мел, неизменно обёрнутый в белую тряпочку, подчёркивавшую идеальный маникюр и тонкую нежную кожу рук, которые, казалось, не знали стирального порошка или хозяйственного мыла.
Её уроки были единственными, где дисциплина никогда не нарушалась. Даже самые отъявленные буяны тихо сидели на задних партах, Вадимовна платила им тем, что забывала об их существовании. Она никого не наказывала и почти никогда не повышала голос, но было в ней нечто, заставлявшее сердце сжиматься от мысли, что она будет чем-то недовольна. Её улыбка стоила дорогого, добиться её одобрения или похвалы можно было только сделав что-то действительно выдающееся, зато её уничтожающий взгляд был пропитан таким вселенским презрением, что я всегда задавался вопросом — как люди, которые удостоились его, могли вообще жить дальше?
Одним из самых любимых её занятий был разбор сочинений. Но и здесь она проявляла себя как достойный своей славы новатор, никогда не называя имён. «Если автор захочет быть узнанным, это его личное дело», — говорила она, читая понравившийся отрывок. И каждый раз автор, раскрасневшийся от гордости, бывал, конечно, узнан.
«Или вот послушайте ещё такие перлы», — и весь класс катался по полу, а написавший вызвавшие её насмешку строки должен был бы провалиться сквозь землю. Но публичная слава была лишь побочным продуктом, самое главное заключалось в её одобрении или неудовольствии. И дело было, разумеется, не в оценках, а в том, что взрослые назвали бы самореализацией, а мы, никак не называя, просто смутно чувствовали — если ты написал или сказал что-то, понравившееся Вадимовне, значит, существуешь не зря.
Надо ли говорить, что к школьной программе Вадимовна относилась довольно легко. Она могла начать урок фразой «У меня тут по программе заложено восемь часов на роман „Мать“… но если вы мне обещаете его прочесть, я бы предпочла обсудить „Мать“ только сегодня, а остальное время посвятить
„Мастеру и Маргарите“.
Благодаря ей мы прочли книги, вышедшие из тени после многих лет если не запрета, то забвенья — произведения Серебряного века, Булгакова, Пастернака, Чуковской.
С её появлением я стал по-другому относиться к литературе — и к предмету, и к книгам вообще. Поначалу моё усердие скорее объяснялось желанием понравиться Вадимовне и страхом, что моё сочинение будет представлено на всеобщее осмеяние. Но потом я обнаружил, что в отличие от других дисциплин здесь от нас не требовали механического прочтения текстов и пересказа впечатлений на бумаге. Вадимовне нужно было больше.
Она хотела, чтобы мы размышляли и формировали своё мнение. Каждый раз, говоря о том или ином авторе, она, конечно, высказывала свою оценку, но просила нас и к ней относиться критически. Я воспринял эти призывы как учительский трюк, нимало в них не поверив. Но каково же было моё удивление, когда среди первых же зачитанных отрывков я не услышал своих, подтверждавших и дополнявших мнение Вадимовны. С улыбкой удовлетворения на лице она зачитывала перед классом те сочинения, где встречалось либо совершенно новое (для нас) отношение к книге, либо противоречащее тому, что мы обсуждали на уроке. Тогда — опять же из желания заслужить одобрение — я стал придумывать, что же такого ещё можно отыскать в
„Дубровском“, чего мы не сказали в классе, и когда необычная мысль приходила в голову, я с радостью хватал ручку и бросался к вырванным из тетради в линейку листам.
Так же обстояли дела и с поэзией. Помимо „Узника“ и „Паруса“, которые Вадимовна не спрашивала (да и невозможно было не знать их после детального разбора), на дом нам задавалось выучить „любое стихотворение размером больше, чем две строфы“. И те, кто выходил отвечать того же
„Узника“ или „Зимнее утро“, прочитав несколько строк, замолкали на полуслове и получали свою пятёрку, сопровождаемые презрительным взглядом и пренебрежительной улыбкой её полных губ.
Это толкало неравнодушных к взглядам и улыбкам Вадимовны искать то новое, что могло понравиться ей или что нравилось им самим, заставляя пролистывать страницу за страницей и читать стих за стихом.
Её-то уроки я старался не пропускать даже в прошлом году. Не только из-за тихого, но вечного гнева Вадимовны, но и потому что получал на них удовольствие.
Эту неделю я пролежал дома. Но сегодня литература и русский язык шли подряд, что чаще всего означало два урока литературы: русскому посвящалось ровно столько времени, сколько требовалось на разбор ошибок в сочинениях. Поэтому я убрал ноги со стены, сел на диван и стал мучительно соображать, что делать — собираться в школу или задрать ноги обратно. Обе песни Горького, которые мы сейчас проходили, я знал наизусть, так что в смысле подготовленности бояться мне было нечего.
Если бы я писал сочинение для себя, то сказал бы там, что когда Горький придумывал своего ужа, он имел в виду таких, как я, которые никогда не смогут летать. Слова про пресловутого пингвина я тоже относил на свой счёт, хотя вовсе не был жирным. И пусть я понимал, что правильнее быть буревестником или соколом, без тени сожаления констатировал, что ужи ведь тоже нужны. Я подумал, что даже без привязки к моей персоне эта мысль была достаточно революционной для представления на суд Вадимовны, поэтому решил: нужно идти.
Плотная серая мгла окутала город, было непонятно, то ли моросит дождь, то ли тучи опустились так низко. Тёмные дома сливались с этой мглой, было не различить, где заканчиваются стены и начинается небо, только время от времени голые чёрные ветки деревьев прорывали серость, чтобы придать ей ещё больше мрачности. Может, где-то и жили соколы (или буревестники?), которые могли гордо реять в небе, но только не в нашем городе. Здесь место для ужей и им подобных, вернее, нам подобных.
Я зашёл в класс последним и сел за третью парту, все места сзади оказались заняты. Да мне, собственно, было всё равно, где сидеть. Стул рядом со мной, как всегда на протяжении многих лет, остался пустым. Все хотели сидеть со своими приятелями, ведь даже на уроках Вадимовны можно было переброситься если не парой слов, то хотя бы понимающим взглядом.
Со мной ни словом, ни взглядом никто перебрасываться не хотел, но меня это нимало не тревожило. Более того, я уже так привык к тому, что в моём распоряжении целая парта, что, сам того не замечая, располагался почти посредине, разложив свои вещи от края до края стола.
Все были на местах. Вадимовна разговаривала с завучем, придерживая дверь рукой и всем своим видом показывая, что разговор давно себя исчерпал и ей пора начинать урюк. Завуч — огромный, похожий на медведя учитель биологии, с вечно красным лицом, на котором едва прорезались щёлочки глаз, — не замечал (или не хотел замечать) её нетерпения и с благодушным видом рассказывал что-то, явно не имевшее отношения к учебному процессу.
В какой-то момент они расступились, и между ними протиснулся мальчик, которого я раньше не видел, что было не удивительно, если принять во внимание частоту моих посещений. Завуч положил свои пудовые руки ему на плечи и, по-видимому, представил Вадимовне. Новенький. Судя по потрёпанному виду, скоро он станет лучшим другом компании с задних парт, так что лучше изначально его не замечать.
Новенький был похож на волчонка, которого неожиданно вытащили из логова на свет. Он вошёл в класс, скрыв испуг, нагло огляделся и направился прямиком к моей парте:
— Эй, чел, давай, подвинься, чего расселся-то? — развязно сказал он.
Я освободил место, стараясь сохранять невозмутимый вид потревоженного лемура, который сразу же погрузится в спячку, как только исчезнет источник беспокойства. Волчонок достал из ранца тетрадь и обгрызенную ручку, и я заметил, что кроме этих двух предметов у него больше ничего нет. Точно, кандидат на задние парты. Можно не волноваться за нарушенное одиночество, уже на следующем уроке я буду снова сидеть один.
Волчонок полностью соответствовал данному мной прозвищу. Он был худой и неуклюжий, казалось, даже на ногах стоял не очень твёрдо. Нечёсаная тёмная грива венчала слишком большую голову на сутулых плечах. Глаза — чёрные злые точки — слегка отличались по размеру, губы были узкими и немного перекошенными, как будто он всё время саркастически улыбался.
Всё в нём было неправильным, неровным, несуразным, но, казалось, он и сам понимает это и поэтому скалит свои уже по-взрослому волчьи зубы, предупреждая окружающий мир, что голыми руками его не возьмёшь. В его повадках угадывалась осторожность и подозрительность. Ходил он как-то боком, словно хотел обозревать все 360 градусов вокруг и боялся повернуться к кому бы то ни было спиной. Смотрел искоса, из-за чего казалось, что он смотрит одновременно и на тебя, и сквозь тебя. Было непросто встретиться с ним глазами, но если это удавалось, они вознаграждали тебя глубиной и какой-то странной двухслойностью, в которой за напускной агрессивностью скрывалась нежность.
Её я, впрочем, обнаружил позже, в этот раз он посмотрел сквозь меня с хитрой ухмылкой на лице:
— Чё притих-то? Я Артур, — и протянул руку, — можешь звать меня Арчи.
— Артём.
— Клёво.
— Что клёво?
— Ну, что Артём. АА получается.
И он засмеялся как-то странно — не всем лицом, а только губами и глазами.
Я немного растерялся. Во-первых, рукопожатия в нашем классе были не приняты, а уж мне-то никто не подал бы руки и подавно. Во-вторых, дружелюбие Артура заходило слишком далеко. Я боялся, что потом, когда он поймёт, с кем связался, раскается, и это усложнит мою жизнь. И, наконец, что подумает Вадимовна, увидев меня за одной партой с этим оборвышем, который пришёл в школу с одной лишь замусоленной тетрадкой? Оставалось надеяться на лучшее: Вадимовна поймёт, что новенький ещё не освоился, а сам он скоро найдёт правильное место в нашем сообществе.
Наконец, урок начался. Было видно, что „Песня о Соколе“ Вадимовне близка. Она стояла в своей излюбленной позе, фигурно облокотясь об учительский стол, и не просто читала лекцию на тему „Что хотел сказать Горький в этом коротком метафоричном произведении“, но разговаривала сама с собой, вдохновенно и эмоционально, как будто со сцены: Если мы посмотрим на ситуацию со стороны, что мы увидим? Небесное свободолюбивое существо, пусть даже тяжело раненное, искушаемо другим, приземлённым, более того — низким, на что-то априори смертельное. Вам ничего это не напоминает? Я зачитаю отрывок из другого текста, написанного почти за две тысячи лет до „Песни“ Горького, а вы мне скажете, есть тут сходство или нет:»… если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею». Ситуации, вернее, искушения, похожи? Похожи. Но вот ответы разные! Если в случае с Христом искушение так и называется «искушение гордыней», то в случае с Соколом всё наоборот. Сокол не просто свободолюбив, он горд. Для него высшая ценность — не смирение, а свобода. Именно здесь заключён новый взгляд Горького на известную притчу. Что остаётся Соколу после такого искушения Ужа? Отвергнуть его! Он ведь должен понимать, что его ждёт за обрывом! А может он упрекнуть Ужа в том, что тот предлагает ему верную смерть?
Попытаться снова взлететь ввысь, что ему, раненому, уже недоступно? Или же в последний раз в жизни испытать свободу, ощутить полноту жизни, пусть даже приблизив тем самым свою гибель?!
— Она всегда такая? — вдруг тихо спросил Артур, наклонившись ко мне.
Я с ужасом посмотрел на него, потом на Вадимовну, которая, кажется, ничего не заметила. Как реагировать на это кощунство? С одной стороны, мне было странно, что кто-то смог устоять против очарования Вадимовны и её страстной речи. С другой — я боялся её гнева, который неминуемо должен был сразить и Артура, и меня. Страх, мелькнувший в моих глазах, ещё сильнее развеселил нового соседа по парте. Он повернулся ко мне, прикрыв лицо руками, давясь от смеха. Я не мог сказать ни слова, боясь привлечь к себе внимание, поэтому всё, что мне оставалось, — изобразить на лице крайнее возмущение. Артур продолжал заливаться, и я решил прибегнуть к проверенной годами тактике — сделать вид, что его не существует.
После урока полагалось выходить из класса. Я уже и не надеялся, что новенький тут же пересядет за другую парту, но, по крайней мере, рассчитывал, что он не станет преследовать меня на перемене. Я занял позицию в углу у окна и осмотрел рекреацию: девчонки разбились на группы и болтали (в этом году они резко перестали прыгать со скакалкой), мальчики лупили ладонями по вкладышам от жвачек. Артура среди них не было. Я стоял как обычно, скрестив руки на груди, делая вид, что меня здесь нет. Тем не менее, я внимательно следил за всем происходящим вокруг, поэтому сразу увидел, как Артур вернулся и застыл около лестницы, оглядывая зал. Он стоял, ссутулившись, руки в карманах, поношенный ранец на одном плече, на лице уже знакомое выражение загнанного щенка, который, впрочем, готов броситься в атаку при первой необходимости. Наконец, он увидел меня, осклабился, заметив, что я наблюдаю за ним, и направился в мою сторону.
— Ну чё ты, чел, в угол забился, как воробей?
— Я не как воробей.
— Хм. А как кто? Слышь, а чё, эта училка, она всегда такая блаженная?
— Артур (я твёрдо решил, что не буду называть его Арчи), она не блаженная, а если ты будешь так себя вести на её уроках, тебе это с рук не сойдёт. Если тебе не интересно, лучше сидеть и молчать.
Не знаю, что подвигло меня на такую отповедь, сказав это, я сам немного испугался своей смелости, быстро глянул на Артура и тут же потупил взгляд.
— Ну ладно, ты перебздел-то ещё так, я видел. Чё вы все её боитесь-то?
Училка как училка. У меня и не такие были.
— А ты как вообще к нам попал в середине учебного года?
— Да меня снова из школы выгнали, и вот родители здесь новую нашли.
Выгнали из школы. Я не представлял, что же такое нужно натворить, чтобы тебя выгнали из школы. Сколько я себя помнил, у нас никого не выгоняли, хотя дай мне волю, я бы не оставил здесь и половины учеников.
— Ну ладно так смотреть-то, чего вылупился. Ну, выгнали и выгнали.
Бывает. Давай, пошли, воробей.
На втором уроке я снова напустил на себя важности и сидел с видом, будто я один за партой. Артур смотрел на Вадимовну так, словно она исполняла цирковую репризу, и время от времени, когда она блистала особенно экспрессивными пассажами, поворачивался ко мне, едва скрывая душивший его смех. Моя чопорная физиономия раззадоривала его ещё больше, так что пол-урока он просидел, спрятав в ладонях красное от хохота лицо.
На перемене он неожиданно спросил:
— А ты чё, куришь, чел? Или типа отличник?
Ещё с той, первой его реплики на уроке литературы каждый раз, когда он говорил что-то из ряда вон выходящее, я делал широкие глаза, чтобы показать (пусть немного театрально и наигранно) всю глубину его заблуждений касаемо мира вообще и меня в частности. «Да как ты можешь говорить такие вещи про Вадимовну, она же богиня!» или «Как ты мог подумать, что меня можно позвать курить?!» — вот что говорил мой взгляд.
Но я был не в силах поразить Артура и заставить его уважать мою оскорблённую невинность, эти гримасы забавляли его так, что он старался эпатировать меня с ещё большим азартом.
— Ну ладно, не хочешь курить, пойдём, постоишь со мной, а то мне там скучно одному.
— Нет, стоять я с тобой там не буду, потому что могут подумать, что я курю тоже, но я уверен, тебе будет с кем постоять.
— Ну ты, чел, даёшь бояться. Какое кому дело, что ты там куришь или нет.
Или у вас тут совсем строго с этим?
— Нет, не очень строго, все курят потихоньку, но раз я не курю, зачем мне с тобой ходить?
Знакомство принимало угрожающие обороты. На алгебре, которая следовала за литературой и была сегодня последним уроком, Артур снова сел за мою парту. На этот раз, правда, у него не было возможности веселиться — мы писали контрольную работу. Несмотря на то что варианты у нас были разные, Артур списал все задачи у меня. Я сначала не хотел давать ему списывать — не из моральных соображений, а скорее из боязни, что мы оба получим по двойке. Но он посмотрел на меня жалобными глазами обиженного волчонка, и я не смог отказать: в конце концов, ведь это у него будет неправильный вариант, ну а в крайнем случае одна двойка по алгебре кардинально не испортит моего положения.
— Тебе в какую сторону идти, Тёмыч? — спросил Артур на улице после уроков. Я хотел было найти предлог улизнуть, но потом решил, что мне его компания на руку: меньше вероятность, что кто-то решит поиздеваться надо мной.
— Артур, меня зовут Артём, не нужно коверкать моё имя, пожалуйста. Мне в сторону проспекта.
— Ой-ой-ой, чел, ты чё такой важный? Ну ладно, Артём Батькович, я не знаю, где тут у вас проспект, но если тебе туда, то нам по пути, мне на автобусную остановку нужно.
Нам было по пути. По дороге я узнал, что Артур живёт на другом конце города, это было довольно странно: обычно все учились в своём микрорайоне. Но ему пришлось оставить уже третью школу рядом с домом, прописана его семья была в области, поэтому им пришлось искать что-нибудь подальше — где Артур ещё не успел подмочить репутацию.
Он не стал распространяться на тему своих приключений и исключений из школ, было видно, что говорить ему об этом неприятно. Так или иначе, теперь ему предстояло исправиться, потому что родители грозились отправить его в интернат.
Во всём этом было что-то неуловимо странное. Дело было не в том, что два мальчика гуляют вместе после школы, а в том, что один из этих мальчиков Я. Мне было неловко, будто мы не шли по серым ноябрьским улицам, а действительно курили в кустах. Артур и в самом деле курил, быстро затягиваясь и пряча сигарету в кулаке. Он говорил урывками, искоса посматривая на меня, чтобы удостовериться, правильно ли я его понял.
Казалось, ему не просто, но по-своему приятно делиться со мной историей странствований по школам. Впрочем, он не бравировал своим положением, более того, в чём-то стеснялся его. Я дошёл с ним до остановки, здесь он снова пожал мне руку и, посмотрев в глаза, протараторил: «Ну, ты только, это, Тёма, не распространяйся в школе про это всё». Я ответил ему своим фирменным взглядом, означающим примерно следующее: «Ты что! Как тебе в голову пришла мысль, что я могу кому-то что-то рассказать!»
Дома я снова погрузился в размышления на софе, прокручивая в голове сегодняшний день.
Артур. С одной стороны, он просто ещё не разобрался, что к чему. На литературе не было свободных мест (были, конечно, но он их, наверное, не заметил) и, таким образом, случай привёл его к моей парте. Потом мы прошлись немного после уроков, он рассказал мне то, что логично рассказывать при первом знакомстве. Но всё это нельзя принимать всерьёз, как только он поймёт, с кем нужно дружить, тут же сделает правильный выбор. Не то чтобы у меня уже был подобного рода опыт, но я не верил в чудеса и не представлял себе, как кому-то может стать со мной настолько интересно, чтобы завести дружбу. Мне даже хотелось, чтобы все точки над i были расставлены как можно скорее, тогда я не успею привыкнуть к нему, и мне не будет слишком обидно. В то же время я чувствовал, что мне будет жаль, если всё случится так, как и должно.
Было что-то в его манере говорить (отрывочно и как-то из глубины), смотреть (искоса, но с озорством в глазах), подыгрывать или эпатировать, заставлявшее меня радоваться тому, что я увижу его завтра. Может, эту неделю мы ещё погуляем после школы, а там уж будь что будет?
Когда просыпаешься утром к первому уроку, чувствуешь себя улиткой, которой зачем-то понадобилось вылезти из своей ракушки. Она знает, что там, за пределами её домика, холодно и темно, и каждый раз задумывается, действительно ли ей так нужна вся эта суета и, может, стоит всё-таки остаться внутри? Часто я позволял себе пропускать первый урок хотя бы потому, что светало только ко второму. Скупое зимнее солнце уже осторожно пробивалось сквозь тучи и занавески, и было не так обидно вылезать из-под одеяла. С этого года я стал «просыпать» не слишком часто и всё время с оглядкой, опасаясь, чтобы эти прогулы не отразились на четвертных оценках. Сегодня вообще-то можно было поспать: первым уроком была алгебра, по которой мы вчера писали контрольную. Разборы контрольных — самое скучное, что можно было себе представить, а в том, что я получил по меньшей мере четвёрку, я не сомневался. Но я поймал себя на мысли, что именно сегодня мне хотелось пойти в школу. Не из-за алгебры, конечно, а просто было интересно, чем закончится наша история с Артуром: сядет ли он снова рядом со мной или предпочтёт место подальше, где непременно найдёт новых товарищей.
Как обычно, я пришёл не слишком рано, чтобы ни с кем не встретиться, но и не слишком поздно, чтобы не опоздать на урок. Сегодня это было особенно сложно: мне, с одной стороны, не хотелось застать Артура до урока, чтобы не смущать его, но в то же время непременно нужно было зайти в класс раньше него, чтобы не пришлось выбирать себе место.
Самое худшее, думал я, если Артур уже в классе и сидит один за партой. Я не знал, как поступить в этой ситуации, но решил по возможности предотвратить её.
В результате сложных расчётов я пришёл почти к началу урока, но встал около двери, чтобы зайти первым. Артура не оказалось в рекреации, что было мне на руку. Я вдруг подумал, что уделяю ему слишком много внимания, которого он, безусловно, не заслуживает. Я думал о нём весь вечер, встал ради него в такую рань, потратив столько сил на то, чтобы быть на месте в нужное время, а теперь вот стою и высматриваю его среди толпы. Да кто он такой, чтобы так о нём беспокоиться?! Подумаешь, сел со мной за одну парту, да кто угодно мог так поступить.
И почему, собственно, я решил, что дело в Артуре? Я просто так пришёл, потому что мне интересно, что я получил за вчерашнюю контрольную. Вовсе я никого не жду, и сегодняшняя алгебра ничем особенным не выделяется. Я подумал, что нужно вести себя как обычно, и машинально начал раскладывать вещи по всей парте. Чтобы не смотреть на дверь, я достал учебник по истории и стал читать параграф, заданный к сегодняшнему уроку. Я пробегал глазами строчки и абзацы, ничего не понимая из написанного, то и дело отвлекаясь и наблюдая краем глаза за дверью. Вот вошла математичка с классным журналом и кипой контрольных, вот последние опоздавшие, среди которых не было Артура, хотя меня это, безусловно, никоим образом не волновало.
На первый урок он так и не пришёл. Наверное, проспал или решил прогулять, как часто делал я. Забыв о том, что вовсе не ждал его и что это был обычный урок алгебры, я в сотый раз перебирал в памяти детали нашего знакомства. Подробный анализ я проделал ещё вчера (что сказал или сделал Артур, что ответил я), теперь я просто вспоминал, как решительно он направился к моей парте, когда зашёл в кабинет литературы, как мы шли потом до остановки, как он говорил, смотрел, улыбался, смеялся, иногда пихая меня в бок («Ну, чел, ты чё, совсем, что-ли?»).
На перемене я снова уверил себя, что никого не жду. Моя жизнь не могла так быстро меняться из-за появления новенького, мне нужно было сохранять равновесие. Когда-то в детстве я ходил на карате, где тренер рассказывал нам, что самое главное и в спорте, и в жизни — сохранять душевное равновесие. Как только оно нарушено противником или просто жизненными трудностями, вы можете упасть. Для меня душевное равновесие заключалось в моём одиночестве, да, вынужденном, но, мне хотелось верить, гордом и невозмутимом. Если все подряд будут садиться за мою парту, а потом заставлять ждать себя на переменах, ни к чему хорошему это не приведёт.
Он пришёл на второй урок, опоздав на 10 минут, что вообще-то считалось достаточно серьёзным проступком. Артуру повезло: историку было всё равно, кто и во сколько приходил на его занятия и приходил ли вообще. Он требовал, чтобы ученики сидели тихо и делали вид, что слушают, как он монотонным голосом зачитывает параграфы из учебника, оживляясь только в моменты описания сражений. В такие минуты он откладывал книгу и рассказывал нам о том, сколько человек участвовало на стороне каждого противника, какие пушки (корабли, танки, самолёты — по мере нашего продвижения от Древнего Рима к Великой Отечественной) использовались в битве. Это, впрочем, интересовало нас ещё меньше — разобраться в солянке из цифр и названий было невозможно.
В кабинете истории мы сидели спиной ко входу, который не видел никто, кроме учителя. Но когда через 10 минут после начала урока дверь приоткрылась, осторожно скрипнув, я почувствовал: это Артур. Наверняка вошёл в класс, снова испуганно оглядываясь по сторонам, как будто его сейчас будут бить и он готов отчаянно защищаться. Я решил не оборачиваться, мне нравилась роль неприступного романтического героя, который с сомнением и иронией смотрит на окружающих из башни своего одиночества. К тому же я не был уверен, что Артур сядет рядом со мной, так что не хотел демонстрировать преждевременную радость. Он извинился за опоздание (не вызвав ни малейшей реакции со стороны историка, продолжившего свою пономарскую читку) и сел за мою парту.
Артур снова пожал мне руку и спросил, что он получил за контрольную по алгебре. Меня обрадовал этот будничный вопрос: если Артур запросто говорит со мной о ежедневных вещах, значит, и меня он рассматривает как часть своего теперешнего существования. Я ответил с сарказмом на лице, что, как я и предупреждал, он получил двойку за чужой вариант.
Я попросил его помолчать, на истории главным было изображать безмолвное присутствие. Обычно я сидел, поставив локти на стол и положив голову на запястья. Эта поза позволяла делать вид, что ты весь внимание, и в то же время думать о чём угодно, и никто не застигал тебя врасплох, прерывая размышления вызовом к доске. Отличницы обычно что-то конспектировали в тетради, для меня всегда оставалось загадкой — зачем записывать за историком, если всё есть в учебнике? Артур развеял моё неведение: он достал из рюкзака свою единственную тетрадь и начал что-то сосредоточенно писать. Сначала я решил оставаться в гордом равнодушии и ни на что не обращать внимания, но любопытство разобрало меня, и я толкнул его локтем, чтобы посмотреть, что он пишет. Он поднял голову и посмотрел на меня красными сонными глазами, как будто только что проснулся. Разворот тетради, лежавший перед ним, был девственно чист. Я понял, что он вовсе ничего не писал, а просто держал ручку над бумагой, повернув голову таким образом, чтобы не было видно, открыты его глаза или нет.
Я был восхищён простотой этой уловки. Какой бы удобной ни была моя поза, самым трудным оказывалось держать глаза открытыми. Так что я взял ручку, прикрыл голову ладонью и погрузился в то состояние, в котором и так постоянно пребывал на уроках истории, но теперь уже с закрытыми глазами.
Какое-то время я слышал, как учитель бубнил: «Позиции Англии на континенте серьёзно укрепились. В её распоряжении теперь было три плацдарма: в Аквитании, Бретани и Кале, плюс по-прежнему сохранялся союз с городами Фландрии…» Но постепенно названия и имена становились мягкими, ватными, я уже не смог бы с определённостью сказать, был ли Эдуард III королём или городом, перестав не только понимать, но и слышать историка. Неожиданно раздался звонок, я вздрогнул, поднял голову и посмотрел на Артура, который сделал аналогичное движение, как будто это я сам отразился в зеркале. Мы оба прыснули. Со мной такое бывало только в далеком детстве и уж точно давно не случалось в школе — чтобы я смеялся так, что не мог остановиться. Меня душила истерика от мысли, что я проспал весь урок, причём проспал не один, а с Артуром, что отличницы-то тоже, наверное, спали и на этом уроке, и на всех предыдущих. И было ещё что-то, заставлявшее меня складываться пополам уже в рекреации и смеяться, смеяться без остановки.
— Ты что, спал взаправду? Ой, не могу. Спал!
— Да, а ты?
— Бля, я тоже, чел, во дела, я никогда ещё на уроках не спал. А ты, Тёма, горазд ржать. А то ходил важный, как гусь, я даже и не знал, умеешь ты улыбаться или нет.
— Ну ладно, я, ха-ха-ха, ещё и не то, ха-ха-ха, умею.
— Пошли курить, Тёма.
— Нет, Артур, курить я не пойду. И вообще я на физру не хочу идти, наверное, домой пойду.
— Я тоже на физру не хочу идти, и вообще у меня формы с собой нет. А ты далеко живёшь?
Я остановился. Раньше ко мне никто не приходил. Не то чтобы это запрещалось, но поскольку такой надобности не возникало, я как-то не успел спросить у мамы, можно ли мне приглашать… друзей? Странное слово, никогда не имевшее ко мне отношения, я сам, не говоря уж об окружающих, всегда использовал его только для обозначения отношений между третьими лицами («Миха и Сергей — друзья» или «Форестье был другом Жоржа Дюруа»).
Я сомневался, можно ли называть другом Артура, и к тому же не понимал, где та грань, за которой одноклассники становятся друзьями? Должно ли пройти какое-то время? Безусловно, должно — отвечал я сам себе — но какое? Месяц, несколько недель, год? Когда можно с уверенностью произнести в повседневном разговоре: «Мой друг Артур тоже покупает эти зелёные тетрадки»? Уж точно не через два дня. Или дело не во времени, а в том, что люди сами решают, называть ли себя друзьями или нет? Но кто из двоих должен принять такое решение, не ставя второго в неловкое положение? Все эти вопросы проносились в моей голове, пока мы шли к моему дому, а Артур всё смеялся, вспоминая, как я проснулся от звонка, посмотрел на него и начал ржать.
Дома мы попили чаю с бутербродами, нам оставалось ещё полчаса до выхода в школу.
— Ну, чего делать будем? — спросил Артур. — Давай полежим?
Я не ожидал такого предложения, хотя, понятно, это было именно то, что я привык делать в свободное время. Я не подал виду, что меня обрадовала его мысль. Мы легли на диван, Артур первым задрал ноги на стену, приняв мою любимую позу.
— Слышь, Артём, а ты музыку любишь? — мне понравилось, что он назвал меня полным именем.
— Люблю, наверное, а что?
— Ну так. А ты какую музыку любишь?
— Всякую. Не знаю, если честно, никогда не думал об этом. Я соврал, конечно. У меня было четыре кассеты, которые я постоянно слушал, когда мамы не было дома. Три из них я купил на сэкономленные (проще говоря, стибренные) деньги, а четвёртую переписал у одного из маминых друзей.
Это были три альбома Army of Lovers и один Pet Shop Boys. Я не понимал ни слова из того, что пелось в их песнях, но мне почему-то казалось, что пели они что-то крайне важное именно для меня. Но пока что я решил держать в секрете свои музыкальные предпочтения от Артура, не будучи уверенным в его одобрении.
— А я «Алису» люблю. Знаешь?
— Нет.
— Фигассе, чел, «Алису» не знаешь! Костю Кинчева не знаешь?! Ну вы тут ваще отстали, я смотрю. У тебя магнитофон есть?
— Есть, но мама не разрешает пользоваться.
— Да ладно, бля, Тёма, «мама не разрешает». Мы немного в следующий раз попользуемся, ей ничего не скажем. Или можем ко мне поехать, у меня послушать. Но тогда после уроков надо, а то далеко.
Я по-прежнему не понимал, стали ли мы друзьями или оставались одноклассниками, которые проводят много времени вместе. Мы сидели за одной партой, вместе стояли на переменах, когда Артур не курил, и я провожал его до остановки после уроков, если он уезжал домой, не зайдя ко мне. Я часто писал за Артура контрольные работы, потому что не мог устоять перед этим его взглядом голодного щенка. Он, правда, исправлял мои решения, чтобы получить тройку. Когда я спросил его, зачем, он иронично ответил: «Не пойму, Тёма, умный ты чел или не очень. Если я вдруг заделаюсь отличником, все поймут, что я не сам это пишу. А к тройкам ни у кого вопросов не возникнет».
Все уроки мы теперь прогуливали вместе, кроме тех, что решали проспать.
Дома он оставлял свои лесные повадки, становясь проще и естественнее. Мы валялись на диване, болтали, пытались иногда делать уроки, но это не особо получалось: я не мог сосредоточиться, а Артур вообще делал домашние задания лишь в исключительных в случаях.
Мне с ним нравилось. Это было новое ощущение, чувство родства и единства. Даже если просто находишься рядом с кем-то, кто тебе нравится, — понимаешь, что ты не один.
У нас появились ритуалы типа рукопожатий при встрече или сна на уроках истории. Поначалу я каждый раз отмечал это и получал удовольствие, когда Артур протягивал мне свою худую острую лапку, но несколько месяцев спустя перестал уделять внимание таким мелочам. Артур по-прежнему старался шокировать меня как можно чаще, и у него это легко получалось.
Я же немного наигранно реагировал на его замечания, даже если похожая мысль крутилась в моей голове за секунду До того, как её произносил Артур. Более того, иногда он предупреждал мои невысказанные желания, которыми я не стал бы с ним делиться, боясь разрушить образ «правильного мальчика» («Тёма, давай, короче, вообще на всё забьём и ко мне поедем»).
Мне оставалось лишь делать изумлённое лицо и говорить что-то вроде: «Ты совсем с ума сошёл!» — а потом соглашаться на его уговоры.
Пару раз мне, впрочем, пришлось убедиться в том, что зубы, проглядывавшие в его щенячьем оскале, весьма остры. Первый раз это произошло на уроке литературы, повлияв на дальнейшую судьбу не только Артура, но и мою.
Если контрольные работы было легко писать за двоих, то с сочинениями всё обстояло сложнее. На уроке у меня не хватало времени, но и дома я мало чем мог помочь. Вадимовна легко распознала бы мой стиль, поэтому на все просьбы Арчура написать за него, я лишь подкинул ему пару мыслей, не затронутые в моей работе, которые могли быть интересными и обеспечить ему желанную тройку. Он, конечно, обиделся — «Ну ладно, чел, посрать тебе на меня и моё сочинение, ну и хуй с тобой. Думаешь, я сам не справлюсь? Да я лучше тебя напишу!»
Он и в самом деле пришёл на следующий урок с очень серьёзным видом и отдал испещрённые чернилами тетрадные листки так, будто это было написанное им Евангелие. Я надеялся, что он использовал некоторые из моих мыслей, отчасти чтобы потешить самолюбие, отчасти потому, что и в будущем это решило бы проблему: я мог выступать в роли ангела Иоанна Богослова, давая ему наводку, а он бы излагал всё как умел. Я не учёл, что Артур не очень хорошо писал. Могу только представить, сколько он сделал орфографических и пунктуационных ошибок: красных чернил там было чуть ли не больше, чем синих (впоследствии я проверял его домашние работы, но не успевал делать то же и в классе). А стиль его стал откровением даже для Вадимовны.
Обсуждение сочинений Вадимовна, как обычно, начала с цитирования самых лучших, по её мнению, работ, я был горд услышать и свои отрывки: «Мне кажется, что маленький принц — это не просто лирический герой. Автор хотел показать трагедию любого ребёнка, которому так сложно найти друга среди взрослых, они не только не способны понять его, но в принципе им не интересуются. Они живут на своих планетах, и им дела нет не только до детей: ведь и между собой они не могут пообщаться. Хотя в одиночестве маленького принца есть и его вина, ведь он сам не заметил друга, что всегда был рядом с ним, на его планете».
А потом наступила следующая часть урока, ожидаемая с нетерпением.
Выдержав паузу и приняв выражение лица, в котором справедливый гнев соседствовал с издёвкой, Вадимовна прочитала: — Это сказка про то, как маленький принц ушёл от родителей и заблудился в пустыне. Там он встретил много животных, все они пытались стать его друзьями. Лиса рассказала ему, что друга нельзя увидеть глазами. Лиса ему также объяснила, что он должен дружить и с розой, но он не хотел дружить с розами, — здесь Вадимовна замолчала. Мы сидели тихо, не было ясно, можно ли начинать смеяться. Через минуту она продолжила: — Мне интересно было бы спросить автора, читал ли он на самом деле эту сказку или только просмотрел её наискосок? И зачем мне нужен пересказ непрочитанной книги?
Дальше шли другие отрывки из того же сочинения, весь класс заливался, не только искренне веселясь над текстом и манерой его прочтения, но и от радости, что это написано кем-то другим и можно смеяться со спокойной душой. Я тоже хохотал, хотя и узнавал мысли, подсказанные мной Артуру.
Он действительно не потрудился прочесть «Принца». Не смеялся только сам Артур. Весь красный, он стиснул на столе кулаки и исподлобья зло смотрел на Вадимовну. Было видно, что в нём закипает что-то гневное и безрассудное.
Иногда так бывает, что люди шумят, смеются, разговаривают, а потом вдруг по какой-то неведомой причине замолкают. В таком оглушительном безмолвии внезапно раздался сдавленный, но громкий голос Артура: — А зачем вот так вот всё обсасывать?
Все сидели не дыша. Вадимовна медленно повернулась в нашу сторону, посмотрела на Артура так, будто не расслышала его, и очень тихо, почти шёпотом, спросила:
— Что? Что ты сказал?
— Зачем вы всё обсасываете? — повторил Артур чуть тише: дав выплеснуться раздражению, он понял, что это было лишним, но исправлять что-либо было поздно.
Вадимовна резко подошла к окну, отвернувшись от класса, и сложила руки на груди, как будто пытаясь справиться с охватившими её эмоциями. Это была новая поза, которую никто раньше не видел и которая всех немного испугала. Что она сделает? Закричит? Затопает ногами? Заплачет?
Выпрыгнет в окно? Как в страшном кино, мне захотелось промотать плёнку, чтоб мы были уже на следующей сцене. Она постояла так немного, потом медленно повернулась и, глядя Артуру прямо в глаза, произнесла, чеканя каждое слово:
— Я «обсасываю» всё это затем, чтобы тебе было стыдно, что ты учишься в этом классе и пишешь подобный бред, а также затем, чтобы все остальные понимали, что можно писать, а что нельзя. Но если тебе такая система не понятна и не близка, ты можешь перейти в другой класс или другую школу и не обременять меня прочтением твоей галиматьи.
Я смотрел на неё, закусив губу, едва сдерживая истеричный смех, вызванный, конечно, вовсе не нахлынувшим весельем, а необычной ситуацией, шоком и страхом. Похожее чувство мне пришлось пережить гораздо позже, когда в самолёте загорелся двигатель, нас, пассажиров, начало жутко трясти. Было страшно, многие кричали, а я не мог остановить смех, задыхаясь от хохота, это длилось до тех пор, пока мы не совершили аварийную посадку.
Вадимовна быстро подошла к нашей парте, бросила сочинение перед Артуром, посмотрела на меня своим уничтожающим взглядом и сказала: — Я не вижу ничего смешного, Артём, в том, что твой приятель не только не умеет излагать мысли на бумаге, но, похоже, не в состоянии произвести на свет мысль, достойную быть написанной.
Прозвеневший звонок закончил это аутодафе. После того как Вадимовна осекла меня, смеяться расхотелось. Произошло страшное. Она не просто рассердилась на меня, она наверняка перестала меня уважать. Теперь я буду для неё не одним из интересных учеников, а просто тенью, которая занимает место в классе и якшается с такими, как Артур.
Самому Артуру, конечно, всё равно, свою тройку он получит, если не будет больше выступать, разумеется. А мне, которому нужны были не столько оценки, сколько признание, оставалось лишь надеяться, что я заслужу её расположение чем-то совершенно гениальным.
Подавленные, мы шли по рекреации, не поднимая глаз, боясь встретиться с сочувствующими взглядами одноклассников. Не сговариваясь, свернули в раздевалку, оделись, вышли на улицу и, не произнося ни слова, направились в сторону моего дома. Наконец, Артур встряхнул головой, посмотрел на меня с наигранным весельем и сказал: — Да и хуй с ней! Ладно тебе, чел, бля, не расстраивайся. Она так будет каждый раз надо мной издеваться, что ли? Да нах мне нужны эти сказки. Да она вообще не понимает ничего. Написал и написал. Не нравится — поставь свою, блядь, двойку молча. Чего тебе ещё?
— Артур, во-первых, прекрати материться.
— Да, ладно тебе, Тёма меня учить. И ты туда же? Ещё тоже мне друг называется. Мог бы лучше сочинение написать.
Моё сердце радостно забилось. Я надеялся, что Артур не заметил охватившего меня волнения. Литературная катастрофа была выбита из головы этим словом, над которым я так долго думал и которое, наконец, прозвучало из его уст, пусть даже и в таком негативном контексте; словом, которое было таким важным для меня; словом, значение которого было так сложно понять; словом, которое я никогда бы не решился произнести, потому что это было бы равносильно признанию, пусть даже и невинному, но обнажающему сокровенные уголки моей души. Пусть это был просто ярлык, который можно вешать (или не вешать) на отношения, но теперь я обрёл совершенно новое для себя качество: у меня был друг!
Внезапно я снова вспомнил Вадимовну, стоящую рядом с нашей партой. Как она сказала? «Мне стыдно за твоего приятеля». «Приятель», — это, конечно, не «друг», но эту реплику можно воспринимать как публичное признание.
Если и Артур, и учителя, да и все остальные думают, что мы друзья, значит, наша дружба становится ещё более настоящей и… узаконенной, что ли. Эти мысли носились, как чайки вокруг рыболовецкой шхуны: «Друг!
Друг! Друг!» — кричали они. И мне хотелось прыгать и кричать им в ответ: «Да, друг! Да, друг!» Я был готов обнять Артура и станцевать с ним что-нибудь радостное, но он наверняка не понял бы причины моего счастья, так что я просто сказал первое, что пришло на ум, отвечая на его последнюю реплику про сегодняшний урок:
— А и правда, Артур. Хуй с ним, со всем!
Дело это быстро замялось. Вадимовна просто исключила Артура из поля зрения, как она это делала со всеми остальными двоечниками. Это не значит, что время от времени она не зачитывала очередные Артуровы «перлы», но делала это не реже и не чаще, чем раньше. Артур понял, что ему лучше помалкивать, раз уж сама Вадимовна о нём забыла. Что касается меня, то я получил свою пятёрку в четверти: Вадимовна не была мстительной. Я уже думал, что на моей школьной карьере эта история никак не отразится и практически забыл о ней, но она дала о себе знать гораздо позже.
Если первый случай, когда я стал свидетелем бойцовских качеств Артура, нельзя назвать вдохновляющим, то во второй истории было даже что-то рыцарское.
Одним из преимуществ появления Артура в моей жизни стало то, что я перестал быть объектом постоянных насмешек. Сначала я не заметил этой перемены, но потом понял, что меня не то чтобы совсем оставили в покое, но в его присутствии ни у кого не возникало и мысли выпотрошить мой ранец или засунуть в него окурки, собранные на улице. Либо мои враги постепенно выходили из возраста, когда нужно ежедневно доказывать свою состоятельность унижением других, либо просто присматривались к новенькому.
Однажды мы направлялись ко мне домой, прогуливая очередной урок физкультуры. До Нового года оставалась пара недель, но на улице пахло весной. Так бывает в наших краях, когда в середине зимы не просто наступает нежданная оттепель, а весь город вдруг преображается, перепутав декабрь с апрелем. Снег проседает, становится серым и тяжёлым, птицы начинают петь по-весеннему, кажется, ещё чуть-чуть — и на ветках появятся почки. Мы шли по снежной жиже, обсуждая грядущие каникулы.
Артур уезжал с родителями в свой родной город, а я не знал, оставаться ли мне дома или отправиться-таки на дачу. Вдруг мне в голову попал увесистый твёрдый снежок. Мы остановились и обернулись: перед нами стояли трое мальчиков из нашего класса и ещё двое из параллельного.
Снежок, видимо, кинул Миха, их извечный предводитель.
— Смотрите ребзя, вот наши голубки гуляют, — сказал один из парней, остальные засмеялись, — что вы там дома делаете, пока все в баскетбол играют, дружочки?
Я, как всегда, стоял и ждал, чем всё это закончится, не отвечая на их шутки. Зачем драться, будет только хуже, а так они рано или поздно отстанут. Но у Артура было другое мнение на этот счёт. Он набычился, как тогда на уроке литературы, и ответил:
— Тебе какое дело, урод? Чего, бля, вылупился, давно тебе рыло не чистили?
После этой фразы я не на шутку испугался. Это было, пожалуй, более безрассудно, чем заявить Вадимовне, что она обсасывает сочинения. Теперь нам было не избежать взбучки, учитывая, что их было пятеро, а нас — один с четвертью (я-то слабо представлял, что смогу сделать, если мы начнём драться).
Парни обступили нас, мы смотрели друг на друга, не произнося ни слова.
Неожиданно Артур выбросил кулак и ударил Сашу из параллельного класса.
Тот схватился за лицо, потом попытался ударить Артура, который увернулся и попал прямо в руки Михи.
Всё время, пока били Артура, я лежал в снегу. Я честно пытался встать, но каждый раз кто-нибудь толкал меня кулаком или ногой, так что я падал опять. Надо признать, я не слишком усердствовал в своих попытках, понимая, что ничем не смогу помочь Артуру, но зато сделаю хуже себе.
Наконец, драка закончилась, и наши обидчики разбежались. К моему удивлению, Артур был не в таком уж плачевном состоянии. Губа разбита, под глазом красовался синяк, но он не казался расстроенным.
— Суки, блядь, я им покажу голубков. Я их всех по одному изловлю. Я их, блядь, так разукрашу, что их мама не узнает!
— Ладно тебе, Артур, успокойся, их и так мама не узнает, ты их уже разукрасил.
— Да! А ты что делал, пока я их красил, друг? — сказал Артур, посмотрев на меня с усмешкой.
Мне стало стыдно за то, что у меня нет ни одной ссадины, но Артур быстро отвёл глаза и больше к вопросу о моём участии в драке не возвращался.
Пока мы шли домой, он ругался вслух, а я думал о произошедшем. Это была не просто драка. Это была драка, когда кто-то (а вернее, не кто-то, а мой друг) дрался за меня с моими обидчиками. Не стоит драматизировать, подумал я, он и за себя дрался, нас-то обоих обозвали голубками, но если бы мы не были вместе, ему не пришлось сейчас размазывать кровь по разбитой губе. Это уже была не просто дружба, а что-то… мушкетёрское.
Я уже запамятовал о том, что не принимал участия в сражении, и шёл, исполненный гордости и радостного осознания — теперь я не один. На радостях я забыл о своей роли отличника: — Артур, давай завтра не пойдём в школу, а поедем ко мне на дачу.
Сегодня уедем, а завтра вечером вернёмся.
— Ты чё, чел, что я родителям скажу. У тебя там, небось, и телефона-то нет.
— Есть телефон на улице. Но он зимой не всегда работает…
— Ну да, «не всегда работает», — передразнил меня Артур, — давай лучше ко мне поедем, не возвращаться же в школу в таком виде.
Артур жил далеко. Нужно было ехать на автобусе, потом пересесть на трамвай — поездка заняла почти час. Его район мало чем отличался от нашего: такие же многоэтажки, много хрущёвок, расставленных, как консервные банки в витрине универмага. Я подумал, что «С лёгким паром!» не обязательно было разносить по двум городам — тут в своём дворе легко ошибиться домом. В одной из таких хрущёвок и жил Артур.
Мы с мамой очень редко ходили в гости, поэтому я не часто бывал в чужих квартирах. А если и бывал, они все были похожи на нашу: такой же сытый советский быт, пусть даже и разбавленный бедностью последних лет. Эта скудость в основном касалась наполнения холодильников, а также всякой новой техники. Серванты ломились от фарфора и хрусталя, а стиральная машина была недоступной роскошью. Вместо кино мы ходили в видеосалоны, где стоял обычный кинескопный телевизор, подключённый к видаку, на котором крутили боевики с Джеки Чаном, озвученные гнусавым мужским голосом.
Съёмная квартира Артура была полной противоположностью всему, что я видел раньше. Она была неустроенной и неуютной. Старую мебель, за которой никто не ухаживал, расставили непродуманно и неудобно: большой диван громоздился посреди комнаты, старый буфет закрывал часть оконного проёма, зато напротив дивана расположилась новая стойка с телевизором, о которой так мечтала моя мама (без всякой надежды купить её). Повсюду валялась одежда, журналы, какие-то коробки. На полу лежал большой палас неопределённого цвета, покрытый слоем не то шерсти, не то пыли.
Маленькая кухня с когда-то белой мебелью производила ещё более удручающее впечатление. На стене не красовалось панно с лебедями из керамической плитки, на столе не стояла хрустальная ваза для фруктов, на полу вместо линолеума или паркета тускнел местами побитый кафель. Зато повсюду стояли пустые пивные бутылки и блюдечки с окурками, грязная посуда и остатки недоеденных бутербродов. При этом квартира Артура была полна той техники, о которой мы и мамины друзья даже думать не могли: видак, двухкассетный бумбокс, телевизор с дистанционным пультом, радиотелефон и даже микроволновая печь.
Артур ничуть не кичился всем этим богатством и не стеснялся условий, в которых жил. Я думаю, он даже с некоторым презрением относился к нашему законсервированному мещанскому довольству.
Он открыл бутылку пива с таким видом, как будто для него это нормально — побаловаться пивком после школы, и предложил мне, но я отказался с искренним возмущением. Я не представлял себе, как в нашем возрасте можно пить алкоголь и какими ужасными последствиями, самым безобидным из которых должен стать алкоголизм, это может обернуться. Впрочем, он сделал это скорее из желания эпатировать меня, чем из привычки пить — бутылка осталась стоять на столе, а потом пиво было вылито в раковину, чтобы родители ни о чём не догадались.
— Ну что, чел, давай музыку послушаем, чем так лежать?
Несмотря на давнишнее обещание, Артур до сих пор не принёс кассеты со своей любимой «Алисой». Сегодня был первый из сотен дней, которые мы провели у него дома, лёжа на диване рядом с включённым магнитофоном. Не могу говорить за Артура, но я обычно не прислушивался к тексту и даже мелодии, отключаясь от реальности и думая о чём-то своём. Но в тот, первый, раз я действительно вникал в музыку, надеясь, что она раскроет мне душу и характер моего друга.
«Алиса» мне не понравилась. Музыка была тяжёлой, грубой и даже слов было порой не разобрать — то ли из-за того, что гитары заглушали Кинчева, то ли потому что Артуру слишком часто ставил эту кассету. Тексты казались бессмысленным набором слов, пытавшихся создать вычурно-пафосное настроение. Я подумал, что эта музыка действует, как водка на алкоголиков: позволяет забыть, кто ты, и погружает в мир ощущений, созданный кем-то другим, но выдающий себя за твой собственный.
Это были песни тех, кто потерялся, кто не доволен настоящим, но не видит будущего, кого выгоняли изо всех школ, кто живёт в хрущёвке без единого фарфорового сервиза, но с магнитофоном, чтобы слушать, и слушать, и слушать одну и ту же кассету.
— Понимаешь, чел, это же про нас песни! «Моё поколение молчит по углам, моё поколение не смеет петь, моё поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть…» И вот Кинчев пришёл, чтобы нам помочь, понимаешь, чтобы нас поднять! Ты знаешь, Тёма, был концерт. И там Кинчев пел, а потом отошёл вглубь сцены, чтобы что-то перетереть с кем-то, и когда он вернулся, увидел, что весь зал или стадион, или где он там пел — все стояли на коленях, потому что знали, что следующая песня будет «Ко мне!» И все так стояли, потому что, ну, бля, я не могу объяснить, почему, но вот так все чувствуют на его концертах.
— И ты там был, что ли?
— Не, чел, это в Москве было. Но люди рассказывали.
— Какие люди?
— Бля, какая разница, какие люди. Которые были на концерте. Тёмыч, чел, ты только послушай: «Новая правда новой метлы — теплом, лаской пронимала до слёз». Это же про то, что всё изменится или уже изменилось, только мы ещё не заметили. Ты знаешь, чел, это слушать надо, это ведь не Пугачёва, что поиграл и забыл, «Алису» чувствовать надо. Ну, ё, это как если бы… а-а… бля, Тёмыч, ни хуя ты не понимаешь!..
Я старался понять, чтобы полюбить. Честно старался — и преуспел в этом, правда, несколько позже. Не знаю, что подвигло меня изменить мнение — сама ли музыка, которой я проникся, прослушав её тысячу раз, или любовь к ней Артура и мое к нему трепетное отношение, заставлявшее смотреть другими глазами на вещи, которые были ему важны. Через какое-то время я стал находить тексты не такими уж бессмысленными, более того, связанными если не с нами, то с людьми, близкими нам. «По ошибке? Конечно, нет!
Награждают сердцами птиц. Тех, кто помнит дорогу наверх и стремится броситься вниз». Это прямо ведь про того самого сокола, которым я никогда не стану. Или вот ещё в другой песне: «Ну а мы, ну а мы, педерасты, наркоманы, нацисты, шпана! Как один, социально опасны, и по каждому плачет тюрьма», — это всё было, наверное, немного экзальтированно, но у меня захватывало дух от таких слов. Я не знал, к кому из перечисленных категорий отнести себя, да и тюрьма по мне вовсе не плакала, но где-то в глубине души я чувствовал: во мне тоже есть эта маргинальность, которая рано или поздно должна проявиться.
Как это всегда бывает, эйфория от обладания другом со временем утратила первоначальную остроту. Жизнь вошла в привычное русло. Школа, контрольные, домашние задания, прогулянные уроки, моя софа, музыка у Артура… Недели, месяцы текли неспешно, дни тянулись один за другим, медленно, но неумолимо унося нас всё дальше и дальше от того, что принято называть детством. Нет, оно ещё не ушло, оно было здесь, с нами, где-то внутри. Но понемногу мы начинали чувствовать — что-то проходит, исчезает навсегда, сменяясь новыми ощущениями, новыми желаниями, смутными, необъяснимыми, поднимающимися откуда-то из глубины, страшными в своей неизвестности, но захватывающими и волнующими. Мы как будто вышли из комнаты с игрушками на крышу небоскрёба. Для начала нужно было оглядеться и понять, где мы находимся, но чтобы сделать это, пришлось бы заглянуть в пропасть, которая притягивала к себе и от которой захватывало дух.
Раньше мы просто жили, радуясь, если был повод для радости, расстраиваясь, если случались неприятности, не особенно задумываясь над тем, кто мы такие и что происходит вокруг. Жизнь была проста, потому что мы сами были просты. Но мало-помалу внутри нас стали появляться вопросы, которые было некому задать и которые не имели ответов. Эти вопросы копились и копились, и приходилось придумывать ответы самим, на свой страх и риск решая, что такое хорошо, а что такое плохо.
Шесть дней в неделю я проводил с Артуром и только в воскресенье помогал маме по дому, ходил в магазин или ездил на дачу. Один я оставался и на каникулах, потому что Артур уезжал в свой родной город. Неожиданно сложным оказалось лето, когда пришлось расстаться на три длинных месяца.
Поначалу одинокие летние дни тянулись ещё медленнее, но потом дачная рутина отвлекла меня, и я перестал думать об Артуре, пока, наконец, не наступил сентябрь и мы не встретились с ним возле школы, подросшие, с белозубыми улыбками на загорелых лицах.
С того момента, когда я приглашал Артура на дачу, прошло много времени.
Мы не возвращались к этой теме, потому что дача была далеко, нам было всё равно, где предаваться безделью, к тому же он наверняка не хотел лишний раз отпрашиваться у родителей. Но вот в одну из суббот, когда мы брели после школы в сторону моего дома, Артур вдруг спросил: щ А чё, чел, дача-то где у тебя?
— Час на электричке от Пискарёвки. А что?
— Да у меня к отчиму друзья приехали, полный дом народа сегодня и завтра. Я подумал тут, может, если к тебе на дачу рвануть, будет круто.
Пригласить друга на дачу — было в этом что-то очень взрослое. Я решил не спрашивать разрешения у мамы, чтобы не вдаваться в лишние объяснения и, как часто это делал, просто оставил ей записку.
В электричке Артур пил пиво, пряча бутылку, если рядом проходили взрослые, иногда курил в тамбуре, всё так же зажимая сигарету в кулаке.
Когда мы приехали, уже начинало темнеть, фонари ещё не горели, и мы шли в густых зимних сумерках. Я вспомнил, как раньше ходил закутанный в шапку и шарф, слушая отдававший в уши хруст снега. Тогда я был совсем один, окружённый всей этой зимой, через которую приходилось продираться к тёплому дому. Теперь всё было иначе. Рядом со мной шагал человек, с которым было невероятно приятно идти по снегу, смеяться и толкать его в сугробы.
Бабуля удивилась нашему приезду: «А чего не предупредил-то? Чем кормить-то вас? И я не топила сегодня ещё, вы замёрзнете совсем». Мы уверили её, что не голодны и нам вовсе не холодно. Она приготовила ужин, и мы уселись смотреть телевизор. В какой-то момент, когда бабуля вышла, Артур вдруг достал что-то из подушек дивана: «Хуяссе, у тя бабушка развлекается!» — воскликнул он с удивлением и показал мне карту — бубновый валет, на котором свинопас с пышными усами, окружённый фрейлинами, приближается к задравшей юбку принцессе.
В один момент всё, связанное с этой картой, — те зимние каникулы несколько лет назад, Ира, любовь, прогулки на мою опушку — пронеслось перед глазами. И вспомнились сами карты, как я разглядывал их в первый раз, шокированный своим открытием. Я всё время хранил в голове эти образы, но никак не мог представить, что увижу их снова.
— Ты что, идиот, Артур?! Она нас убьёт, если увидит. Это не бабушка, это человек один тут забыл. Отдай.
— Какой такой «человек», Тёмыч, у тебя это забыл? Смотри, какой у него елдак, он ей сейчас всю жопу разорвёт.
— Артур, я тебя прошу, перестань материться и отдай мне карту, — сказал я со всей возможной строгостью.
— Ой, ой, боюсь, ну ладно, чел, ништяк, ты чё, тебе нельзя такие карты, ты же у нас правильный мальчик, трусы себе запачкаешь.
— Артур, я тебя прошу, прекрати кривляться, — настаивал я и протянул ему руку с таким видом, как будто хотел сказать: «Даю тебе последний шанс, прежде чем перейти к решительным действиям».
Артур не шевелился, испытывающе и хитро глядя на меня, ожидая, что произойдёт дальше. Тогда я, не отдавая себе отчёта в том, что делаю, попытался отнять у него карту. Первый раз в жизни я предпринял попытку добиться чего-то силой. Некоторое время мы возились на диване — Артур прятал карту за спину, а я, обняв его, пытался дотянуться до неё. В конце концов, карта оказалась в моих руках, и мы оба застыли в неудобной, но странно приятной позе: руки Артура были по-прежнему заломаны, я лежал на нём, и мы часто дышали друг другу в лицо. Мне бы хотелось долго лежать так, ощущая дыхание Артура, пропитанное сигаретами и ещё чем-то кислым, но всё равно такое необычно сладкое. Я, наверное, задержался дольше, чем того требовали обстоятельства, и тут Артур, как это часто с ним бывало, сделал что-то совершенно неожиданное — с растягом, широко раскрыв рот и сильно высунув язык, по-собачьи лизнул меня в лицо. Меня охватила ещё большая дрожь удовольствия, я, изображая недотрогу, вскочил, отплёвываясь и вытирая лицо тыльной стороной ладони.
Артур зашёлся в хохоте.
Я до сих пор задаюсь вопросом, что его веселило на самом деле: моя ли оскорблённая чопорность или неумелая игра, которую было так несложно раскусить?
Ночью Артур быстро уснул, а я долго слушал, как дрова в печке трещат в такт его дыханию. Мне было приятно сознание того, что Артур лежит на соседней постели, и если я немного высунусь из-под одеяла и протяну руку, смогу прикоснуться к нему. Я вспоминал, как мы боролись, красные и потные от напряжения, как потом лежали друг на друге и не могли отдышаться. Эта физическая близость, казалось, должна была ещё больше сблизить нас. Ведь мы, с одной стороны, не делали ничего постыдного — все дети могут так вот копошиться, отнимая другу друга игрушки, но с другой — было в ней что-то большее, чем просто детская возня. И это что-то приятно тревожило моё сердце, не давая уснуть.
Я стал вспоминать Ирины карты, перебирая в памяти историю Августина.
Фрейлины, принцесса с большой грудью, свинопас с огромными усами. Все эти картины рождали новые ощущения, или, наоборот, мои чувства вызывали в памяти и воображении разные ситуации. Я уснул, и мне приснился тот же сон, что снился много лет назад, на этом же месте. Я снова принимаю участие в этой сцене. Снова окружён женщинами с задранными юбками.
Усатый мужчина входит в круг. На нём ничего нет, кроме жилетки свинопаса. Я не опускаю глаз, мне немного страшно. Я слышу голос Артура, он говорит что-то про «елдак», и чувствую запах табака из его рта. Он подходит ко мне очень близко, так что я перестаю различать черты его лица, я чувствую, что упираюсь в его жилетку, она шершавая, но в то же время мягкая — или это его нога? Она трётся об меня или это я сам совершаю странные движения. Всё вокруг пропадает, утопает в дымке, становясь незначительным. Я всё ещё чувствую жилетку или ногу свинопаса, она прижимается ко мне всё сильнее и сильнее, и, наконец, что-то обрывается, что-то сильное и тяжёлое внутри меня падает, я сам куда-то лечу и тоже падаю, пока не просыпаюсь и не обнаруживаю, что простыня подо мной мокрая и чуть липкая.
Сначала я не понял, что произошло. Я подумал, что описался, такое случалось со мной и в достаточно позднем возрасте, хотя я уже не помнил, когда писал в кровать последний раз. Я потрогал и понюхал то, что было на простыне. Нет, не моча. Мне стало немного противно, что придётся спать в этой луже, кроме того, я не знал, что делать, чтобы ни бабуля, ни — особенно! — Артур ничего не заметили утром. Я аккуратно подоткнул одеяло так, чтобы прикрыть мокрые пятна, и тут меня осенило. Я ведь, наверное, превратился в молодого мужчину! Мама рассказывала мне об этом когда-то, вот оно и случилось! Я не знал, нужно ли мне делать теперь что-то специальное и чем мне вообще грозит моё новое состояние. Но, вспоминая свой сон, подумал, что вместе с гадливостью испытываю что-то приятное. В конце концов, я заснул с надеждой, что сон повторится, но мне не снились больше ни свинопас, ни принцесса, ни Артур.
Мама дружбу с Артуром не одобряла. Сначала я вообще не говорил ей, что у меня появился друг, потому что боялся делиться с ней какой бы то ни было информацией. Никогда не знаешь, как она на это посмотрит и чем это обернётся для меня. У всех, конечно, есть друзья, и родители обычно не имеют к ним претензий. Но мамино поведение предсказать было невозможно.
К примеру, последнее время мальчики стали носить новые причёски, подражая то ли Кинчеву, то ли Цою: чёлка и макушка оставались прежней длины, а сзади отращивалось несколько длинных прядей. Смотрелось это диковато, но было жутко модно. Когда я заикнулся, что мне нравится такой стиль, мама категорично заявила: «Если ты хочешь сделать из себя дебила — пожалуйста! Но я у себя дома на это смотреть не намерена». Запрет был странный — мне можно было делать всё, что я захочу, но следовало переехать жить в другое место?..
В общем, я решил, что рано или поздно она познакомится с Артуром — но чем позже, тем лучше. С ним было бы не так просто расстаться, как с идеей отрастить патлы.
Она столкнулась с ним всего пару раз, когда он задержался у меня после школы и не успел уйти до её прихода — мы с ним никогда не обсуждали этот момент, но интуитивно старались не встречаться с родителями. Оба раза Артур тихо поздоровался, быстро собрался и прошмыгнул в дверь, как будто его присутствие в нашем доме было преступлением. Мама ни о чём не спрашивала меня, видимо, рассчитывая, что я расскажу сам. Но я предпочитал молчать, и вот однажды на кухне, когда мама варила суп, а я чистил картошку, она спросила:
— А что это за мальчик к тебе ходит?
— Артур.
— Он из школы, что ли?
— Да.
— А почему я его раньше не видела?
— Он новенький, его только в этом году к нам перевели.
— А учится он хорошо?
— Нормально.
— Очень странный мальчик. Не могу сказать, почему, Артём, но мне он не очень понравился. Ты уверен, что ты с ним хочешь дружить?
— М-м.
— Ну, смотри, Артём, я тебя только хочу предупредить, чтобы ты держался подальше от такого рода людей. Они сначала могут притвориться друзьями, а потом подложить такую свинью, что мало не покажется. Надеюсь, он тебя не научит ничему плохому.
— Нет, мам.
На этом разговор, конечно, не был закончен. Если у мамы не было возможности что-то однозначно запретить за отсутствием веских причин, она никогда не оставляла темы и капля за каплей точила камень, пока не добивалась своего. Теперь каждый раз, когда речь заходила о школе, уроках, контрольных, каникулах или таких отвлечённых понятиях, как дружба и приятельство, мама не упускала случая бросить камень в огород Артура. «Ну а что, друг этот твой, Артур, он тоже сочинение на пятёрку написал?», или «А родители Артура придут на собрание?» (они так ни разу и не пришли, моя мама, впрочем, тоже посещала родительские собрания крайне редко), или «Артур тебе курить не предлагал?», или «Понимаешь, Артём, дружба — это такие отношения, которые проверяются годами и испытываются сложностями. Без них дружба не дружба, а просто знакомство.
Помнишь, как у Высоцкого: „Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, парня в горы тяни…“ Я вот, к примеру, уверена, что если Артура проверить на прочность, он убежит, поджав хвост. Но тебе этого, конечно, не понять сейчас, потому что вы ещё не попали в нужную ситуацию. Ты, главное, будь осторожен».
Я на все эти эскапады мычал и молчал — спорить с мамой бессмысленно, можно было только навредить, выдав ей что-нибудь лишнее. Чтобы не дать ей в руки какой-нибудь козырь, на основании которого она могла запретить, скажем, приглашать Артура в гости, я следил за тем, чтобы они никогда не встречались, чтобы Артур, не дай бог, не курил дома и вообще чтобы его присутствие в моей жизни ничем себя не обнаруживало.
Но она, конечно, знала, как часто он к нам приходил. Я предпочитал не лгать по мелочам, это могло натолкнуть маму на какие-нибудь расследования. И хотя я был более-менее уверен, что мы не делали ничего предосудительного, когда лежали на диване, смотрели телевизор или даже спали, я не смог бы гарантировать, что мы ненароком не нарушили какого-нибудь ужасного табу, о котором мама забыла мне рассказать, «потому что не могла и представить, что мне в голову придёт совершить такое». Так что на её внешне безобидные вопросы мне приходилось отвечать честно:
— Ну, как дела, чем после школы занимался?
— Дома сидел, смотрел кино, сейчас буду уроки делать.
— И Артур с тобой телевизор смотрел?
— Да.
— А ещё что вы делали?
— Ничего, только телевизор смотрели, и потом он домой уехал.
— Ну ладно, — отвечала мама с таким видом, будто хотела сказать: «Это мы ещё проверим, только ли вы смотрели телевизор».
Она никогда не давала повода подозревать её в слежке, но я чувствовал, что нахожусь под постоянным колпаком, который стал ещё более тесным с тех пор, как мама впервые увидела Артура. Не знаю, что было бы, если бы она учуяла запах сигарет или пива, но я всё ещё испытывал ужас перед алкоголем и табаком, поэтому осуждал своего друга и даже не думал пробовать вслед за ним. Но, помимо вредных привычек, были у мамы, видимо, ещё какие-то страхи, которые она попыталась рассеять, переложив их тяжесть на меня.
Психологические беседы проводились всё реже и реже. То ли у мамы не было времени и сил — ей приходилось много работать, «халтурить», как она говорила, чтобы прокормить меня и вышедшую на пенсию бабулю, — или, может, сами разговоры эти потеряли смысл, теперь меня было трудно заставить рыдать и рассказывать все свои секреты. Я усвоил манеру односложно отвечать на вопросы и со всем соглашаться. Обычно мы общались на кухне во время приготовления ужина или уже за столом. Но это были не те беседы, что раньше, — внимание концентрировалось не на разговоре, а на очистке картошки или помешивании поджарки для супа: сложно пророчествовать, когда слёзы вызваны луком, а не расстройством чувств.
В один из выходных, когда я, как обычно, лежал с книгой в руках, она подозвала меня знакомым голосом пророчицы. Я был уверен, что она хочет предпринять решительную атаку на Артура, и мне было интересно, что подвигло её на это. Неужели узнала о том, что мы уже месяц не ходим на химию?
Мама сидела в своей любимой позе на протёртом уже кресле: одна нога подогнута под другую, сигарета во рту, пепельница на коленях. Луч зимнего солнца пробивался сквозь щель в занавесках и, словно софит, выхватывал её окутанное дымом лицо. Я увидел вдруг, что она постарела.
Крашеные белые волосы поредели, и когда она убирала их назад, как сейчас, спереди получалось несколько ровных проборов с чёрными корнями, создававшими впечатление, что волос недостаточно. Несмотря на тональный крем, под глазами проглядывали синяки. Она выглядела смертельно уставшей — не после тяжёлого дня, а уставшей в целом. Она ещё могла казаться красивой, но это была уже не та демонстративная красота, знающая себе цену, — это была отчаянная, уходящая красота, доживающая последние годы.
Мама не смотрела на меня и говорила отрешённо, будто разговаривая сама с собой. Но я знал, что она не выпускает меня из виду и рано или поздно задаст неожиданный вопрос, на который не будет лёгкого ответа и который должен будет проникнуть в потаённые уголки моей души, она повернётся ко мне рывком, каким притаившаяся мурена хватает свою жертву, и спросит, глядя прямо в глаза.
— Артём, я давно хотела обсудить с тобой один момент. Сядь, пожалуйста, и послушай, — она глубоко затянулась, выдохнула дым, слегка отстранив голову, и продолжила, — в жизни каждого мальчика наступает момент, когда кажется, что он уже может физически начинать свои отношения с женщинами.
Но на самом деле это не так. Организм ещё не сформировался, многие органы функционируют не так, как нужно, и если даже ему кажется, что он мужчина, он еще ребёнок. Самое опасное в таких случаях — это раннее начало половой жизни. Потому что если мужчина рано начинает свою половую жизнь, то очень велика вероятность, что он её рано и закончит, слишком рано станет импотентом, то есть неспособным на половую связь.
Хорошее начало хорошей беседы. Если не считать невинных поцелуев с Ирой, ни о каких отношениях с женщинами речи пока что не шло. Даже если бы вдруг как манна небесная на меня сегодня упала женщина, я совершенно не знал бы, что с ней делать, хотя мне и была известна техническая сторона вопроса. Правда, я не был уверен, что происходящее с мной по ночам не является ранним началом половой жизни, смертельно опасным для моего дальнейшего существования. Может, именно из-за этого мама решила говорить со мной?
— Также некоторые мужчины, когда женщины рядом нет, и особенно это касается молодых мужчин, не начавших ещё половую жизнь, так вот, некоторые мужчины пытаются самостоятельно вызвать те же реакции, которые должны были происходить, когда рядом находится женщина. Ну, там, руками, к примеру, или ещё как-нибудь.
И тут мама резко повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Я сразу отвёл взгляд, но у меня было такое чувство, что за доли секунды, когда наши глаза встретились, она успела проникнуть в самую глубину и всё понять.
— Так вот, Артём, что я должна тебе сказать. Это очень плохое занятие.
Во-первых, оно не просто вредно для здоровья, но даже опасно. Доставляя себе ложное удовольствие, эти люди рискуют потом своей дальнейшей жизнью с женщинами. Кроме того, можно так к этому пристраститься, что это становится болезнью, которая в конце концов сводит человека в могилу. Ты ведь знаешь, Гоголь умер в 40 лет. Так вот, он умер именно от этого недуга.
Поскольку мама продолжала смотреть на меня в упор, я покраснел, тем самым, наверное, уверив её в подозрениях. Я ничего не делал руками, но ведь все эти ночные сны — они тоже были не просто так, я хотел, чтобы они мне снились, и часто нарочно вспоминал свинопаса, прежде чем уснуть, тем самым как раз «вызывая самостоятельно те реакции, которые должны происходить в присутствии женщины».
Хорошо, что мама не стала интересоваться причиной моего смущения, решив, наверное, что с меня довольно стыда и страха за своё будущее. Вместо этого она снова посмотрела на меня, глубоко затянувшись: — Надеюсь, Артур никак не замешан в каких-нибудь делишках такого рода?
А я, вместо того чтобы опровергнуть наличие самих «делишек», попался в расставленные силки, честно ответив на этот двусмысленный вопрос: — Нет, мам.
Вернувшись в свою комнату, я первым делом отыскал томик Гоголя. Я не надеялся, что там будет написано, отчего на самом деле умер писатель, но, во-первых, следовало проверить возраст, про который говорила мама, а во-вторых, может, можно будет что-то прочитать между строк. Я стал просматривать абзац за абзацем, сначала в начале вступительной статьи, потом в конце, не собираясь читать её целиком: «…родился 20 марта 1809 года в Полтавской губернии…», «…последние годы были омрачены…», «…второй том „Мёртвых душ“…», «…наследие великого писателя неоценимо для советской культуры…». В статье, как это часто бывает, не только не было ни слова о том, от чего скончался писатель, но даже не упоминалась дата его смерти, потому что, наверное, подразумевалось, что она должна быть всем известна, как день собственного рождения. Я пересмотрел статью ещё раз, на этот раз страницу за страницей, но так ничего и не нашёл.
«Завтра спрошу у Вадимовны», — подумал я, тут же решив, что хотя полностью от моих снов отделаться не получится, но, по крайней мере, надо постараться не вызывать их специально. Может, если они будут случаться редко и не по моей вине, меня не постигнет участь Гоголя.
На следующий день я для начала решил проверить, как ко всему этому относится Артур. Не было и речи о том, чтобы спросить его напрямую, поэтому приходилось действовать осторожно.
— А ты знаешь, Артур, от чего умер Гоголь?
— Кто-кто?
— Гоголь.
— А кто это?
— Блин, Артур, мы его месяц назад проходили. Ты же читал его!
— А… ну и что. От чего, ты говоришь, он умер?
— Умер, потому что, ну… баловался руками.
— Что?!
— Ну, пристрастился руками вызывать ложные эротические удовольствия, — сказал я, не веря, что смог это произнести.
— Дрочил, что ли? Да ладно, чел, разве от онанизма умирают? — Артур смотрел на меня с сомнением, но было видно, что ему эта тема интересна.
— Да. В сорок лет.
— Хуяссе! А ты откуда знаешь?
— Рассказали.
— Да ладно пиздеть, Тёмыч, хуйня это всё.
— Артур, прекрати, пожалуйста, материться и спроси у Вадимовны, если не веришь.
Артура не нужно было дважды просить сделать что-нибудь необычное. Когда мы зашли в кабинет литературы, он подошёл к учительскому столу. У меня ёкнуло в груди, потому что я подумал, что он спросит сейчас не только про возраст, но и про болезнь Николая Васильевича, но Артур только хотел напугать меня:
— Скажите, — сказал он с театральной паузой, рассчитанной исключительно на меня, — а Гоголь во сколько лет умер?
— Я не помню точно, но, кажется, года в сорок два — сорок три. А что?
— Нет, ничего, просто интересно.
Вадимовна проводила Артура удивлённым взглядом, я же победно посмотрел на него: мои слова подтвердились! Впрочем, подтвердились ведь не столько мои слова, сколько слова мамы. У меня никогда, наверное, не будет возможности узнать истинную причину смерти Гоголя, но если часть информации верна, значит, остальное тоже должно быть правдой.
Я решил, что нужно бороться с этими нездоровыми проявлениями, что оказалось не так-то просто. То есть не то чтобы очень сложно, но они всё время побеждали. Вечером того же дня я лежал в постели и думал обо всём, что так стремительно происходило в моей жизни. Наша дружба с Артуром, мамины подозрения, что он замешан в каких-то штучках, её опасения, что если он не превратит меня в курильщика, то непременно научит чему-то другому, и все эти ночные приключения, которые так опасны для здоровья.
И Артур, лизнувший меня в лицо, — зачем, интересно, он это сделал? Можно, оказывается, делать это руками. И тогда не обязательно готовиться ко сну, вспоминать свинопаса и надеяться, что тебе снова приснится, как ты стоишь в кругу фрейлин, он медленно приближается к тебе, а ты не шелохнёшься, потому что ждёшь, боишься, но хочешь, чтобы он был ближе, близко-близко…
Я решил — ладно, если я попробую один раз сделать это сам, то не умру тут же на месте, ведь даже Гоголю потребовалось сорок лет, чтобы эта болезнь сгубила его, а в моём состоянии ждать сна было бессмысленно.
Всё произошло на удивление быстро, я даже не понял, что сделал, чтобы добиться того результата, которому обычно, как мне казалось, предшествовали долгие часы сна. Я включил настольную лампу (зажигать люстру не решился), чтобы посмотреть на результат ложного удовольствия.
Раньше ведь я не видел ничего, кроме пятен на простынях. Увиденное мне не понравилось, я почувствовал себя грязным, как будто кто-то высморкался мне на живот. Я достал носовой платок, вытерся и решил, что это больше никогда не повторится.
На следующий день я снова лежал в темноте и думал, что, может, два раза — это ещё не болезнь…
Через неделю я понял, что обратной дороги нет. Что я пошёл по стопам великого русского писателя, чей вклад в советскую культуру неоценим, но пошёл, к сожалению, отнюдь не по писательской стезе. Только одна мысль утешала меня: до сорока лет было далеко. Может быть, за это время болезнь пройдёт сама собой или от неё придумают какое-нибудь лекарство.
Я решил, что если не получится совсем избегать этих «делишек», то можно, по крайней мере, стараться делать это как можно реже. Тогда, наверное, мне удастся дотянуть до пятидесяти, а там уже, кто знает, не исключено, что старые люди вовсе не страдают этим пороком.
Для начала я подумал, что раз это удовольствие запретно, надо не просто ограничить себя в частоте, но создать некую систему, которая привязала бы мои действия к чему-то другому. Систему поощрений за хорошие дела. Я решил, что буду заниматься этим (мне было неприятно даже про себя пользоваться терминами, услышанными от Артура) только в те дни, когда получу пятёрку в школе.
Учителя должны были удивиться моей резко возросшей активности — я первый поднимал руку, старался отвечать на все вопросы и всегда быть у доски, даже когда не был уверен в том, что знаю предмет (в конце концов, если я получу пятёрку, это хорошо, а если нет, то хуже не будет). Но потом настали выходные, и мне пришлось думать, за что я могу себя наградить в воскресенье. Тут пришла очередь удивляться маме, потому что я перемыл всю посуду и сам вызвался убрать квартиру без её настойчивых напоминаний. Жить в таком режиме было сложно. Несмотря на то что я учился хорошо, я не привык читать все заданные параграфы по всем предметам, обычно выбирая только те, по которым могла быть контрольная.
После двух недель усиленной учёбы («Чел, ты чё, академиком решил заделаться?» — спрашивал Артур) я решил, что четвёрки тоже достойны поощрения. Всё это было утомительно, а самое главное, мучительно в те дни, когда я не получал никаких оценок, потому что меня не вызывали к доске и ни по одному предмету не было контрольной. Конечно, я думал, что если я получил две хорошие оценки вчера, то сегодня я могу использовать одну из вчерашних. Но если два дня подряд были безоценочными, вечером я долго ворочался в постели, а потом скрепя сердце принимал решение, что иногда можно и отойти от принятых правил ради простого удовольствия.
Недели борьбы сменялись периодами апатии, когда я думал, что болен неизлечимо, так что даже не стоит и сопротивляться. В такое время я отдавался своему недугу с каким-то остервенением, занимаясь этим по пять-шесть раз в сутки, как будто знал, что скоро мне предстоит ужаснуться глубине своего падения и предпринять очередную отчаянную попытку совладать с собой.
Мои сновидения прекратились, это, несомненно, свидетельствовало о том, что болезнь прогрессирует. Мне было очень интересно узнать, один ли я среди моих одноклассников подвержен этому пороку. Каждый день я всматривался в лица других мальчиков, пытаясь найти следы ночной борьбы.
Но это всё были обычные лица: красивые и не очень, с детской припухлостью и первыми прыщами. Ничто не могло с определённостью сказать, что они делают то же самое. Мети бы они только знали! Даже Артур, так свободно говоривший про эти вещи, казалось, совсем не был ими озабочен. Может, ему удалось избежать их? Или именно этого боялась моя мама? Может, Артур давно уже безнадёжно испорчен, и у него и в мыслях не возникает, что то, чем он занимается, так опасно? Я не решался заводить разговор на эту тему из страха, что он засмеёт меня или, не дай бог, научит чему-нибудь ещё более вредному. Мне хватало и того, что есть. Я всегда подозревал, что со мной что-то не так, и теперь получил тому наглядное подтверждение: я конченый человек, и можно только надеяться, что расплата придёт не слишком скоро.
В конце этого года мы должны были написать заявления с указанием класса, в котором хотели бы учиться. Не у всех, конечно, был выбор из-за оценочного ценза, но те, кто не проходил в классы «с уклоном», не очень расстраивались, потому что их жизнь обещала стать проще. У меня не было никаких сомнений в том, что Вадамовна будет рада принять меня под своё крыло. Я ходил с гордым осознанием того, что не зря прожил последние два года, старался не просто так, что софа была принесена в жертву не зря.
Исполнялась моя давняя тайная мечта стать официально немного выше и лучше, а значит, и сильнее моих мучителей. Пока они будут биться с наречиями и деепричастными оборотами, я отдам свои силы познанию великого, а гидом мне будет самая уважаемая в школе учительница.
Не так просто обстояло дело с Артуром. Его тактика по переписыванию моих контрольных с добавлением ошибок привела к тому, что его не выгнали из школы за неуспеваемость, но почти по всем предметам у него были твёрдые тройки. С таким реноме ему, в общем, даже никакого и заявления писать не требовалось. Мне, с одной стороны, было радостно, что я не попаду в простой класс, но было жаль, что мы не будем больше соседями по парте.
Мы, конечно, останемся в одной школе, нам даже удастся, возможно, вместе прогуливать уроки, но это будет уже не то. Иногда я с горечью думал, что свято место пусто не бывает, и рано или поздно Артур найдёт себе какого-то нового друга, у которого можно будет списывать контрольные, даже и не вставляя в них ошибки, потому что их там и так будет достаточно. Мы не обсуждали этот вопрос, но по глазам Артура я видел, что и он расстраивается. Мы оба понимали, что требуется некая жертва ради нашей дружбы, но ни один из нас не был готов её совершить.
Всё оказалось не так, как я запланировал.
В один из чистых, ясных и таких тёплых майских дней, когда ты всем телом чувствуешь приближение каникул, Вадимовна задержала меня в классе после окончания урока. Я почувствовал неладное, потому что раньше она никогда не проявляла желания беседовать с кем бы то ни было наедине. Мы стояли возле приоткрытой двери, Вадимовна направила взгляд своих больших чёрных глаз куда-то за мою спину и начала говорить достаточно тихо, так что мне приходилось прислушиваться.
— Артём, я бы хотела поговорить с тобой относительно твоего желания учиться в моём классе. Я думаю, что ты очень старательный мальчик, у тебя многое хорошо получается. Мне нравятся твои сочинения, твой стиль и твоя способность критически смотреть на вещи. Но ты должен понять, что я собираю не просто класс, а команду, которая будет жить одним организмом.
Я боюсь, тебе будет сложно с нами. Я не хочу, чтобы трудности такого рода отбили у тебя охоту учиться. Мне кажется, тебе будет проще и полезнее в физико-математическом.
Я вдруг заметил, что она немного косит на правый глаз, но это не портило её, а, наоборот, придавало шарма. Воробьи за окном стали чирикать гораздо громче, или, может, раньше я просто не обращал на них внимания?
Вадимовна говорила ещё и ещё, что не нужно расстраиваться, что я обязательно найду себя в физико-математическом, что литературу у нас всё равно будет вести она, так что в моей жизни мало что поменяется, я слушал этих воробьев и думал — что же они так расчирикались, отчего им так радостно?
Вадимовна закончила и открыла дверь, пропуская меня вперёд. Я еле слышно попрощался и вышел в рекреацию, где меня ждал Артур.
— Артём, ты чего? Что случилось? Что она тебе сказала?
Только потом я вспомнил, что Артур назвал меня по имени, что случалось крайне редко, я искренне терпеть не мог всех этих «Тёмычей». Я пробормотал что-то невнятное и поплёлся к выходу. Артур последовал за мной, не переставая задавать вопросы. Мне не хотелось ни его участия, ни его сочувствия, мне нужно было остаться одному, чтобы пережить и переболеть это предательство. Я повернулся к нему и механически, без намёка на какую-либо интонацию в голосе произнёс: — Артур. Всё нормально. Я не пойду на алгебру, мне нужно домой. Но я тебя прошу, останься в школе. До завтра.
Артур удивлённо остановился, не зная, послушаться или продолжать идти за мной. Я медленно пошёл в сторону дома, не оборачиваясь, чтобы не дать шанса моему другу остаться рядом.
Предательство. Было ли это предательством? Со стороны кого? Вадимовны?
Она ведь просто делала свою работу. Если я не подходил для её класса, потому что не вписывался в «команду», её долгом было остановить меня.
Она, собственно, никогда не давала мне надежды, не намекала, что хочет видеть меня в литературном классе. Это я сам всё придумал. Слишком занёсся, забыл, кто я есть на самом деле. Хотел стать выше, чем все остальные. Надо, конечно, знать свой шесток и не высовываться.
Так размышлял я, уткнувшись лицом в стену, как в детстве. Я не плакал, нет, я давно престал плакать, но в такие минуты мне хотелось стать совсем маленьким, чтобы занимать в пространстве как можно меньше места.
Мне казалось, что тогда мне стане* легче, все трудности исчезнут сами собой, потому что их груз просто не сможет давить на такое маленькое создание. И если лежать лицом к стене, близко-близко, пусть даже с открытыми глазами, ты достигнешь этой цели и превратишься в ничто.
«Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море». Я был тем ужом. Но я и правда хотел летать. Не из стремления доказать, что небо мне интересно, а потому что устал смотреть на море, свернувшись в узел. Я хотел взлететь и доказать всем остальным, что я могу. Мне нужно было сделать это из гордости, из мелочной мести.
Но нет, небо не для меня. Мне было бы там сложно. И трудности такого рода отбили бы у меня охоту ползать. «Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она — в паденье!..» А всё это безумство храбрых — оно только для того, кто рождён соколом. Даже очень храбрый или самонадеянный уж вроде меня никогда не добьётся ничего, кроме лишних синяков.
В таком положении меня застала мама, вернувшаяся с работы. Я не слышал, как она открыла дверь. Она вошла в мою комнату, села рядом и тихо спросила: — Артём, что-то случилось?
— Нет, мам.
— А что ты так лежишь?
— Просто.
— Что-то в школе? Провалил экзамен?
— Нет, мам.
— Что-то с распределением?
— Меня не берут в литературный класс.
— Почему? Оценки плохие?
— Нет. Вадимовна думает, что мне будет сложно.
— Как это «она думает»? Какое она имеет право так думать? Я завтра же пойду и поговорю с директором школы. Что за самоуправство?! Как можно так распоряжаться ребёнком и решать, где ему будет сложно, а где просто? — иногда мама начинала очень активно бороться с несправедливостью, особенно, если это касалось начальства, чиновников или вообще представителей государственных структур.
Вообще-то мне было приятно, что она готова заступиться за меня, но я понимал, что из этого ничего не выйдет, а если даже и выйдет, то в итоге я окажусь в классе Вадимовны против её воли, чего я не пожелал бы никому. Поэтому я тихо, но твёрдо сказал: — Мама. Пожалуйста. Не нужно никуда ходить. Я буду учиться в физико-математическом.
— В физико-математическом? Ну что ж. Это не так уж и плохо, нет? У тебя ведь всё получается с математикой? И физика тебе всегда нравилась, разве не так?
— Да, мам. Всё нормально. Можно, я посплю немного?
Рекомендуем:

Дмитрий Лычёв
Владимир Кирсанов
Алгебра и начало
Ольга Козэль
Алеся
Затворник Антон

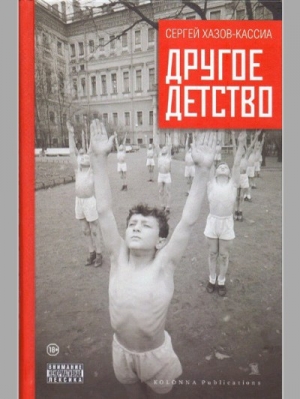
5 комментариев