Виталий Краних
Чужая история
Аннотация
«Чужая история» - это рассказ об опасности отрицать свое естество, об опасности вколачивать себя в рамки «общественного стандарта», и убивать себя этим. Убивать фактически, в реальности, без всяких метафор.
Когда, двенадцать лет назад , я писал эту чужую историю из 80-х годов прошлого века, был почти уверен, что она не актуальна и никому не будет интересна. Останется, как исторический опыт. Вдруг кому-то пригодится для исследования подростковой психологии.
Но кто же мог подумать, что случится вот это всё …
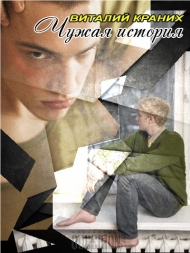 Часть первая
Часть первая (от начала до конца выдуманная, а потом еще и здорово приукрашенная, вот так то...)
«Каждый из нас имеет свою историю,
но я не слышал еще ни одной счастливой...»
1
Федору тогда было почти пятнадцать лет. Веселый, компанейский, пацан каких много, но уж очень симпатичный на мордаху: блондин с нежными волосами и почти девичьим личиком, скуластенький такой, с лукавым прищуром и белесым пушком на верхней губе. И сложен был прекрасно – бег, плаванье и перекладина: школьное троеборье, в котором он если и не стал чемпионом края, то только из-за тренера, которому на спортивные успехи юниоров было наплевать, сам он больше по литроболу тренировался.
И когда перешёл Фёдор в новую школу с началом восьмого класса, то проблем с новыми одноклассниками у него не возникло. Девчонки уже на третий день стали ему записочки в стол подсовывать, а ребята даже и не жужжали, посмотрев, как он ничуть не стесняясь, на перемене снял пиджачок и поиграл бицепсами на публику. Да, не Геракл, но мало не покажется. А после еще и на физре про свое троеборье объявил, и сходу в бокс записался, который физрук по четвергам в спортзале вел.
Учителя к нему относились без всякого напряжения. Школа непростая - много детей из номенклатурных семей, а этот и простой, и на все предложения соглашается, и всем помочь готов, активный мальчик, симпатичный; даром, что звезд с неба не хватает, а и не зарывается – знает свое место.
Федор точно знал свое место. В школу эту он по великой материной радости перевелся: вышла она замуж за железнодорожника с большой трехкомнатной квартирой (бывший НКВДэвский дом) и длинным балконом, недалеко от вокзала. Радость конечно: теперь и детям каждому по комнате и кухня огромная с кладовкой (говорят коморка для прислуги была) и от работы недалеко. Мама его была женщиной простой и часто Феде повторяла, что лучше будет, если свое место знать. Всем лучше будет. Учись, делай, что говорят, нос не задирай и всё будет хорошо.
Очень быстро и школьные приятели образовались, не долго ему пришлось к старыми друзьями на край города вечерами ездить, в сентябре уже пригласил его на день рождения новый одноклассник Олег. На первый взгляд - обычный вроде мальчик, воспитанный только очень. Но как на Олега учителя смотрят и как Олег с учителями себя держит - Федор сразу отметил, не «просто так» мальчик. Худенький - соплей перешибешь, а говорил со всеми «свысока», директриса с ним только что не за руку здоровалась и улыбалась ему очень доверительно.
Когда Фёдор матери сказал, что деньги на подарок нужны и кому назвал, та сначала отказала, мол денег нет, надо бы до зарплаты подождать. Но как муж с вечерней пришёл, и поговорили они, так и деньги сразу дала и добавила: «Ты дружи с ним».
Дело, разумеется, не в самом Олеге было, в его родителях – отец в крайисполкоме, а мать где-то в здравоохранении, не на последних ролях. Олегу же приходилось просто «соответствовать». В школе все было давно схвачено. Собственно, школьная программа сложностей не вызывала, да и учителя «не подводили», если когда случалось ему полениться и чего-то не доучить. Ходил он, начиная еще с пятого класса, на всякие кружки в медицинский институт, готовил там рефераты, литературу дополнительную почитывал. И потому в школьных делах активного участия не принимал. Времени не было, на мелочи размениваться.
Когда в восьмом классе Олег сам вызвался принять участие в подготовке Осеннего Бала, классная руководительница была удивлена. В учительской же на новость мало кто внимания обратил – «... мало ли, влюбился поди, мальчик же, с кем он там заседает в подготовительном комитете? С Леночкой Черняховской? Ой, ну так ничего удивительного! С такой красавицей любой бы согласился «участие принимать»! Она еще и новенького привлекла, как его звать? Ах, да – Федя! симпатичный мальчик...»
Кроме Олега сдружился Фёдор еще с одним пареньком из параллельного класса - жгучим брюнетом грузинских кровей и с невероятной фамилией, которую русские одноклассники быстренько сократили до удобопроизносимого Котяра, ну или Котя - для девочек. Был он глазами лучист, не по-детски мускулист, но скромен и стеснителен до слез, особенно когда под девчоночьи визги выскакивал из школьной раздевалки с пылающими ушами и щеками. Девочки любили его. А он любил заниматься самбо, побеждал в районных соревнованиях и показывал Фёдору, как они на тренировках «танцуют», имитируя захваты и броски через бедро.
Фёдор с Котей даже больше времени проводил, чем с Олегом. Родители у Олега хотя и были подчеркнуто радушны к любым его гостям, да видно было, что у них дома гости редки, не было там тепла. Котяра же был парень простой, отец его на тепловозах машинистом служил, дома, когда бывал - больше отсыпался. Жили они друг от друга недалеко – через площадь перейти. У него теперь Федор и пропадал. Домой к себе он не очень любил с ребятами приходить. И мать вечно днем дома, и с отчимом не всё ладно – взрослый уже парень, ему независимости хотелось, понимания, признания что ли... А отчим так чужим для него и оставался.
Олег тоже с Котярой сошёлся, хотя вроде и общего у них ничего не было. Но, видно устав от своего надменного одиночества, он между своими вечерними медицинскими кружками (а иногда и вместо них) приходил тоже - в картишки перекинуться, покурить тайком на балконе, а когда и просто «за жизнь» поболтать. Увлечение своё медициной Олег очень просто и доходчиво объяснил высокой идеей служения людям. Пафосностью фразы он не смущался, так как уже прочитал книги Юрия Германа о враче Устименко, которые много объясняли его юношеский пыл и восторженность.
Котяра на книжную романтику не повелся, а Федор заразился тоже, и читал запоем, иногда и до утра, прекрасные добрые сказки о бескорыстной и самоотверженной работе простого советского врача.
Ах, как хорошо понимали они друг друга, Олег и Федор! Ах, как радовался Олег тому, что и Федор таким же романтиком оказался, что так легко устремился он вместе с Олегом к прекрасной светлой цели... И так переполняла его гордость за то, что сумел он донести и до Федора свою идею высокого предназначения, что смотрел на него уже едва не с обожанием и был готов теперь с другом последним поделиться! О последнем тогда, разумеется, речи не шло, но, чем мог, он делился совершенно бескорыстно. Носил книги из дому почитать (по тем временам было это настоящей ценностью), японскую жвачку, Пепси новосибирского разлива или еще чего-нибудь экзотического, что ему дома, как любимому сыну ответственных родителей полагалось. Прихватывал иногда и сигареты, но с этим дома строго было, мама блюла, поэтому слишком не рисковал. Котя, мальчик практичный, не увлекшись романтическими идеями, тем не менее был рад новым друзьям. Он имел в собственном распоряжении комнату, где можно было собраться всем троим после школы, мог незаметно тырить у отца сигареты, которые все втроем и курили, ну а когда его мама приходила со службы, то все получали еще чего-нибудь сладенькое к чаю.
Федор в окружении новых друзей был счастлив, как мог быть счастлив мальчишка, которого понимают, с которым дружат такие замечательные ребята, умные и начитанные, как Олег, простые и верные, как Котяра.
Он загорался любой новой идеей и поддерживал любое, даже безрассудное, предложение. И без разницы, похулиганить его звали или подряжали помогать пенсионеркам из партийного «сталинского» дома. Душа-парень, он умудрился уравновесить собой романтичность Олега и практицизм Котяры в их мальчишеском трио. Месяца не прошло после первого знакомства, а он уже цитировал Вознесенского из взятого у Олега сборника, помогал Котяре на огороде, когда его туда отец загонял, планировал поступать вместе с Олегом в медицинский и ходил с ним на кружок в анатомку, сам пошёл и втянул Олега дежурить в ДНД от кружка самбистов (не оставлять же Котяру с бандитами один на один), в школе после уроков рисовал стенгазету, дружил со всеми девочками в классе и мог запросто их «шутя» облапать в раздевалке, что очень облегчало теперь жизнь Котяры, - он уже не так смущался в общей свалке, но что раздражало Олега – не любил он когда Федя на других отвлекался, а сам он в дамских игрищах участвовать избегал.
В ноябре, когда уже снег лежал и плотный наст схватил на реке белые волны сугробов, собрались классом на шашлыки, тайком, без учителей, праздновать день рождения Федора. Ехать автобусом было не далеко, а от конечной остановки по распадку между сопками на излучину реки - рукой подать. Там подрытый бурным весенним течением берег образовывал над песчаным пляжем навесы с неглубокими нишами, которые среди молодежи назывались «пещерами», и где в летние месяцы студенты часто устраивали шашлыки. Для восьмиклассников такая поездка должна была бы неминуемо закончиться грандиозным скандалом с вызовом родителей, поисками зачинщиков и карающей десницей педсовета.
Но странным образом всё устроилось. Девочки-активистки взяли организацию поездки в свои руки, сами порешали, кто точно должен быть, а кому можно и «дома поболеть», распределили между собой необходимые покупки, обошли всех, кто был приглашён, и собрали по сорок копеек, закупили все необходимое, после короткого совещания разрешили мальчикам взять с собой вина и назначили время встречи на остановке автобуса в воскресенье утром. По итогу в поездку отправилось всего-то десять человек. Кроме наших трех друзей было еще два мальчика повиднее, ну а девичий контингент количественно соответствовал: один к одному.
Федя был королём праздника. Как только выехали из города он без труда занял лидирующее положение и уже не уступал его никому. Во главе маленького отряда он прокладывал в сугробах тропинку, за ним гурьбой весело галдя сыпали девочки, а мальчики несли сумки в арьергарде. Собственно шашлыков, как таковых, и не было. Устроили костер, пожарили хлеб с колбасой, выпили вина и просто бесились. Прыгали с кручи в сугробы, катались по склону сопки кубарем, девчонки голосили по всякому пустяку, мальчики посмеивались и соревновались - кто чаще руки подставит: снизу подтолкнуть или в объятия принять...
Только Федор не соревновался – его самого со всех сторон лапали, стоило только притвориться, что падает – тут же пара одноклассниц кидалась его поддержать, еще кто-нибудь с другой стороны руку тянул подхватить, а если уж скатывался с горки на боку один, то вниз он уже обязательно в чьих-нибудь объятиях прикатывал.
Смех, визги, раскраснелись все... Вспомнили, что еще одна бутылка вина припрятана, до последней капли всем поровну разделили и выпили. Утомились немного. И костер почти прогорел, а времени то совсем ничего – полдень только. Тут опять активистки инициативу проявили:
– Ребята, айда за хворостом! Да потолще ветки принесите. Федя, а ты куда? Нет, ты останься, поможешь....
Помощь была невелика - в «Бутылочку» играть. В честь Дня Рождения был Федя единственным целователем назначен и сидел вне круга на камне, как Ермак Тимофеевич на троне. А девицы-красавицы ему по очереди уста подставляли. А он-то уж, кот-лакомка, только щурился хитро и лобызал, и лобызал...
Когда ребята с охапками сухих веток вернулись, он успел не только по два раза всех пятерых обцеловать, но и тех, кто поддатлевее был, крепче к груди прижал, и руками по грудочкам огладил, а красавице Леночке Черняховской под распахнутым пальто еще и кофточку из рейтуз теплых наружу вытянул, ей потом перед всеми заправлять обратно пришлось. Но никто не засмущался. Ребята тут же в игру вошли, всем радости хватило наобниматься и нацеловаться вдоволь. Маленькая заминка только вышла, когда «бутылочка» Олегу на Федора показала, но игра есть игра: «Целуйтесь давайте!» засмеялась Леночка...
Олег резко поднялся со своего места, перешагнул через бутылку, стал клониться к Федору, но оступился и неуклюже повалился на него, опрокинув на спину. Упал к Федору на грудь лицом к лицу, глаза в глаза, рот в рот – и замер так среди поднявшегося хохота.
«Целуйтесь, целуйтесь!» визжали девчонки.
Олег лежал на Федоре, дыша прямо ему в лицо, и не решался прикоснуться губами.
- Целуй же, - тихонько скомандовал Федор - Чего ты?
И Олег, выпятив губы, поцеловал его в полуоткрытый рот, смачно, со звуком, громко...
- Ого!- поднялась опять волна хохота.
- Покраснел –то, ой-ёй! - Котяра веселясь ткнул локтем под бок поднявшегося Олега.
- На тебя посмотрю, как ты целоваться будешь... – Олег отряхивал колени и старался на одноклассников не смотреть.
- Ну вас к чёрту! – он занял свое место и игра закрутилась по новой. Однако когда пришёл черед Коте с одним из мальчиков целоваться, он схитрил и, улыбаясь всем лицом и манерничая, объявил:
- Я Мариночке уступаю, - и подтолкнул соседку в круг.
Мариночка радостно не возражала. Так дальше и продолжали играть, уступая соседкам мальчиков целовать, а соседям – девочек.
Домой вернулись из поездки довольные, веселые, до нитки мокрые от снега, но никто не заболел, и главное все вовремя до дома добрались, в четыре часа подружки уже созванивались, и впечатлениями делились.
Ребята тоже сначала по домам отправились, переодеться да помыться, а после, как темнеть стало опять у Коти собрались. Разговор вокруг поездки крутился, да вокруг девочек, которые, как оказалось, вовсе и не против были с мальчиками целоваться. Котяра себя героем чувствовал – и ту целовал и эту ухватил... Федор улыбался на его реплики, поддакивал и лукаво щурился, опять переживая в памяти минувший день... Олег тоже возбужден был, всё никак успокоиться не мог - так много впечатлений в один день! Вся эта затея с поездкой ему с самого начала не нравилась, но он дал себя уговорить и как-будто всё без скандала обошлось, даже и весело было...
- Олег, а ты целоваться не умеешь! – Федор улыбнулся другу.
- Да уж! - Олег фыркнул, – практики маловато было...
- Ой, а покраснел опять! - Котяра победно улыбался, вспоминая свою всегдашнюю мучительную красноту.
- Хочешь - научу? – Федор спросил так просто, словно «который час?» спрашивал.
Олег рот открыл, чтобы только выдохнуть, слов ответить не нашлось...
А Федор легко поднялся на ноги, подошёл, взял голову Олега в ладони, притянул к себе и - поцеловал в губы. Беззвучно, но крепко и нежно, прижался губами к Олеговым губам, слегка потянул в себя и задержал так, пока Олег не стал задыхаться, не догадавшись дышать через нос.
- Понял как надо? - Федор отодвинул голову Олега от себя, но рук не убрал, словно собирался повторить урок.
- Да, ага – Олег замер с открытым ртом...
Котяра тоже сидел вытаращив глаза и открыв рот.
- Ну, чего пялитесь? Это меня сегодня Черняховская научила. Эх! Что за баба! А сиськи какие у нее! Я ей в трусики залез, пока вы за дровами ходили. – голос Федора сделался бархатным, и он потянулся, закинув руки за голову - Эх, что за красота! Я бы умер у нее на груди...
- Ну ты, Федя, даешь! – Котяра сделал глаза уже совсем круглыми, - И что она тебе сказала?
- Кхы! А что она должна была сказать? Котяра, ты что с дерева упал? Она ведь баба, ей ведь тоже хочется.
- А когда ты ее будешь ... – Котяра чуть слюной не подавился.
- Так сейчас поужинаю дома и пойду, – Федор хитро прищурился и улыбнулся Олегу, - Ты останешься или тоже пойдешь? Смотри уже темно на улице.
- Да, конечно, я тоже... – засобирался, спохватившись Олег
- А меня одного оставляете? Да? Я тоже хочу...- Котяра решительно соскочил с дивана.
- Да успокойся ты! – Федор засмеялся – Никуда я не пойду! Шуток не понимаешь? Мне еще уроки делать надо, и мать сказала, чтоб не задерживался. Пойдем, Олег.
Когда они в слабо разбавленной фонарями темноте уже подходили к дому Федора, Олег неожиданно и без предисловий вдруг спросил:
-А ты уже баб е-еба..? – и замолчал, судорожно сглотнув и скомкав окончание.
- Да. Уже много... – Федор лукаво прищурился.
- Врешь ведь...!
- Вру, конечно! - Федор опять рассмеялся – А ты думал, что я – ухарь - террорист?
- А сегодня ты правда в трусы к ней залез?
- Правда, но это же руками. Что ты всё спрашиваешь? Хочется, да?
- Н-н-н-да!
- О! Ты что, заикаешься? Я не замечал.
- Я-а-а-а редко! Теперь! - трудно выдохнул Олег.
Федор смутился тем, что он подтрунивал над приятелем, а Олег всё так серьезно принимал и разволновался, до заикания. Хотелось подбодрить, обнять, сказать, что вместе горы свернем, что вместе...
- Ты-ы-т меня п-оцеловал.
-Так ты же не умел, я и показал, ты извини...
- Нет-нет, эт-т-то хорошо было!
- Да ты не волнуйся, Олег, всё нормально, я ведь тебя по-дружески только поцеловал. Это ничего. Это так.
- Нет, нет – Олег как всхлипнул и, навалившись на Федора, неловко обхватил его за плечи – Ты извини... – Федор подхватил его :
- Олег, что ты? Опять на ногах не стоишь?
- Всё нормально, п-п-рости! – Олег резко отвернулся и заспешил к своему двору
- Пока, Олег! - Федор еще с минуту постоял, глядя на удаляющуюся тень друга, вздохнул глубоко и вошёл в подъезд своего дома.
2
Воскресная поездка таки была открыта уже на следующий день. Оживленная болтовня со смехом и шуточками по поводу воскресных забав прекратилась с первым же звонком на урок, потому что, войдя в класс, учительница химии окинула строгим взглядом лица учеников и резко проговорила, едва открывая рот:
- Черняховская - к директору! Здравствуйте дети, садитесь!
Вслед за Леночкой в директорском кабинете по очереди побывали все пятеро девочек – заводил и участниц, а на перемене учительница отконвоировала к директорскому закутку и четверых мальчиков.
В школьном коридоре на них показывали, растерянно переглядывались и пожимали плечами. Котяра подскочил к группе подконвойных:
- Что? вы куда?
- Тихо. Иди отсюда...
- Постой, Котариниванджидзе , - химиня усмехнулась –Тебя тоже Александра Ивановна пригласила – и она слегка развела руки в стороны, словно приглашая мальчика присоединиться к товарищам, но одновременно и отрезая путь к бегству.
В кабинете, Александра Ивановна, женщина дородная и властная, сидела за своим столом, справа и слева от нее восседали завуч и старшая пионерская вожатая - тоже женщины не мелкие, за ними у окна скромненько стояла их классная руководительница, Ирина Владимировна, кутая плечико директорской гардиной. Мальчиков рассадили пред грозные очи трибунала.
- Так, молодые люди... - Александра Ивановна взяла паузу и тяжелое напряженное предчувствие неминуемой беды легло на плечи пятерых молодчиков. Котяра сразу же вспотел, и лоб его блестел бисером капель. Двое мальчиков, почти случайно попавшие в поездку, старательно не смотрели на своих соседей. Олег кусал нижнюю губу и пытался поймать взгляд старшей пионерской вожатой или уж завуча. Но напрасно – обе смотрели в стол, а Александра Ивановна, безошибочно выбрав жертвой Котяру, безжалостно и пристально рассматривала его длинные черные ресницы, на которых вот-вот уже должна была появиться слеза раскаяния...
В этот-то напряженнейший момент психологического воспитательного воздействия Фёдор вдруг громко всхлипнул, и, словно переломившись пополам, наклонился вперед и закрыл лицо руками...
«Эх, передавила, кажется!» про себя пожалела ребенка Александра Ивановна, а вслух прогрохотала так, что бахрома переходящего красного замени закачалась:
- Успокоились все! ЕЩЕ никто никого не наказывает! –
От этого «ЕЩЕ» Котя сжался на стуле до лилипутских размеров. Ребята замерев, держались за стулья, как за борта шлюпки с тонущего корабля. Федор начал раскачиваться взад вперед и от пальцев, прижатых к лицу, до пола потянулась прозрачная ниточка слюны, он опять громко всхлипнул и потянул носом...
Олег посмотрел на него и так больно губу прикусил, что сам вздрогнул. Краска стыда за Фёдора залила его лицо:
«Как это Фёдор плачет? Да он рыдает! Как маленький, которого сейчас накажут!»
Он вдохнул и поднялся рывком на ноги:
- Мне надо позвонить! Я должен позвонить папе!
- Я уже говорила с Вашей мамой, Олег, - Александра Ивановна сходу перешла на товарищеский тон.
- Я отцу позвоню! - Олег уже не спрашивал. Ноздри его трепетали, краска сошла и бледное яростное лицо выстрелило в директрису черными точками глаз.
-Я отцу ПОЗВОНЮ!!! – прошелестел Олег и на нижней губе его выступила капелька крови.
Александра Ивановна окаменела, потом встрепенулась. Сама схватила телефонную трубку и прижала ее к правой подмышке.
- Да-да, позвонить! Идите дети! Нина Владимировна – проводите! Проводите ребят! Я позвоню. Я сама позвоню! - Александра Ивановна поднялась наконец на ноги, вернувшись к нормальным человеческим размерам (стоя она была ниже среднего роста, однако за столом всегда возвышалась над всеми на пол-головы) и суетливо начала подталкивать из-за стола своих верных помощников по трибуналу.
- Я сама сейчас и позвоню, идите дети, идите!
Все поднялись на ноги. Фёдор, по-прежнему зажимал руками рот, но глаза его не плакали, а словно подпрыгивали в безумном смехе, лицо раскраснелось, волосы на голове торчали во все стороны. Он первым вылетел из кабинета, едва не падая на колени, перебежал коридор и, толкнув двери, выпал на крыльцо. Когда Котяра и Олег выбежали из школы, Фёдор уже лежал в сугробе запрокинув назад голову и заливался хохотом! Он хохотал как безумный, безудержно, с повизгиванием и перекатыванием с бока на бок , с «Ой, ой, не могу больше!», он не мог остановиться.
Котяра, глядя на него, тоже улыбался, смахивая ладонями со лба захолодевшие на морозе капли пота. Олег же лишь недоуменно вглядывался в лицо друга.
- Что с тобой!? Придурок!! Заткнись наконец! Что ты ржёшь? Можешь сказать. Что случилось?
- Ой, я не могу, я помру сейчас на месте, мама-мамочка родная, ой умираю... и-и-и...!
Котяра стал тянуть Федора из сугроба и тоже смеяться. Они сцепились руками и Федор, подтягиваясь, вновь зашёлся смехом:
- Они как три, ой не могу, как три толстяка, ой мамочки мои родные, и как три поросенка , ой- и-и-и-и !!! три слоника....
Котяра отпустил руки Фёдора, и тот снова упал в сугроб, продолжая хихикать. «Смешинку поймал», - Котяра косо улыбаясь переглянулся с Олегом. Тот тоже улыбался, но совсем не весело.
- Фёдор, ты - дурак! - Олег развернулся и пошёл в школу. Котяра таки дождался, когда Фёдор придет в чувство и помог ему подняться.
История с поездкой была срочно забыта. Александра Ивановна еще раз дозвонилась до Олеговой матери и тысячу раз извинилась за внушение, но «это же в воспитательных целях, и пойдет всем на пользу, и разумеется надо внимание уделять внеклассной работе с подростками – вот, в следующие выходные с физруком в лес поедут и учителя разумеется поддержат и примут участие. Да конечно же баловство с поцелуйчиками. Но девочки все воспитанные, ответственные, вот и Черняховской Лены папа предложил сам транспорт выделить, может так и лучше, еще тысячу раз извините...»
3
В жизни каждого из друзей и поездка, и разговор тот нелепый в директорском кабинете стали поворотом к новой, другой жизни.
Олег обиделся на Федора и неделю ходил мрачный как туча. В классе демонстративно на друга не смотрел, на робкие попытки заговорить не реагировал и к Коте домой тоже не приходил. На кружках для школьников в мединституте старался подальше от Федора отодвинуться и во время препаровки уходил к другому столу.
Дома для него никаких последствий телефонные извинения директрисы, как и вся воскресная история, не имели. Мама заметила его подавленный вид и раздражение, но, зная сына, не очень обеспокоилась и с расспросами не приступала. Конечно-же неприятно, когда отчитывают, да еще за чужие поступки отвечать приходится – кому понравится? Но оно может и лучше: должен же уже понимать, что не со всеми стоит дружбу водить. В жизни всегда так – каждому свое.
Федор, и так-то вниманием не обиженный, стал не только в своем классе, но и среди всех восьмиклассниц признанным героем-любовником. Что и говорить - девочки седьмых и шестых классов, так же, как и старшеклассницы, на каждой переменке ловили каждый взгляд молодого красавчика. А он, купаясь в лучах девичьего внимания, только прищуривал хитренько один глаз и помалкивал. И видно было, что нравится ему. Такие роли именно для него и писаны! На младших он не смотрел. Главное внимание его было обращено на выпускных королев, но и своих одноклассниц он не обижал. Куча-мала, которую устраивали школьники в раздевалке после уроков часто заканчивалась для него горячими объятиями с девочками на куче сорванных с вешалок пальто.
Котяра, верный Федоров товарищ, был срочно и навсегда переименован в Котеньку, и пользовался не меньшим успехом у слабого пола, но один в девичий котел ринуться не решался, с другом оно вернее было. Так и повелось, что Котя Федора после окончания уроков дожидался и уже вместе они за пальто шли, вместе и из «окружения вырывались» и часто потом сразу же к Коте домой и направлялись.
Олег, за всю неделю, не промолвив ни одного слова Федору, с понедельника вдруг перестал ходить на занятия. Заболел. Федор забеспокоился. Он хотя и не чувствовал за собой вины, но ясно было, что Олег на него из-за чего-то обиделся.
Котя пытался было ему объяснять, да не смог. По-всякому выходила нелепица: Федор рассмеялся, а Олег на это обиделся. Надо было объясниться, но Олег сам лишил его такой возможности. А теперь еще и заболел... Решили сначала позвонить. У Коти дома был и телефон, и телефонная книга. Нашли нужный номер по фамильному списку, через железнодорожный коммутатор попросили выхода на городской и - звонок пошёл. У трубки был Котяря, и как только Олег ответил, то сразу же засыпал его вопросами:
-Ты что, заболел? Простыл, да? Давай мы придем? Ты дома один? Хочешь чего-нибудь? У меня еще сигареты остались...
Олег курить не хотел, но, чтобы пришли, согласился, и уже через 10 минут стояли друзья перед Олеговой дверью на 4 этаже большого сталинского дома. Олег открыл им, молча отступил, пропуская перед собой в квартиру, но уже в прихожей и не выдержал:
- Федор, ты дурак!
- Да что я сделал такого?!
- Нихрена ты не понимаешь!
- Не понимаю! Ты хоть скажи, чего ты обиделся? Я что, над тобой что ли смеялся? Да они как три бегемотихи сидели, ты что не видел? Слонихи! Три толстяка перед тортом, сейчас есть нас начнут! ну и что такого...?
- Ничего! - Олег ушел в кухню, оставив друзей в своей комнате.
Федор переглянулся с Котярой, но тот только руками развёл, мол говорил же - сам не всё понимаю.
Олег заварил чай, поставил чашки на стол и позвал друзей. Уже сидя на кухне за чаем и шутливо отгораживая ладонью розетку с вареньем от Котяры, Олег вдруг совершенно не в тему, ни к кому не обращаясь, сказал:
- Я думал - ты плакал.
- Я тоже так думал, - Кот словно знал, что Олег об этом заговорит.
- Ой, ну вы даёте! Чего бы я плакал-то? - Федор дурашливо вытаращил на приятелей глаза, – Маленький я, что ли?
- Да так... Котяра - вон обосрался. Я ж видел.
- Да ладно, Олег, чего ты. Сам-то тоже наверное...
- Я убил бы ее, тварь! – Олег так зло ответил, что Котя испугался и покраснел, а Федор замер.
- Тогда я думал, что ты испугался её и стал плакать, - Олег смотрел мимо Федора, - Поэтому я ее так... А ты ржал, придурок!
- Но я же не виноват... – Федор развел руки в стороны, словно открывая себя всего: «Вот, все смотрите. Я точно не виноват!»
- Не виноват, - согласился Олег - Я тоже дурак. Извини.
- Ну слава тебе, Господи! – Котя улыбался во весь рот и сверкал глазами, - Наконец-то! Помирились! А я-то думал, что ж такое случилось между вами, ничего не понимал! Давай еще чаю, варенье есть еще?
- Есть варенье, - Олег заулыбался на Котину прожорливость и выставил из-под стола почти полную трехлитровую банку с вареньем - Ешь! Только в банку руками не лазить! Сейчас в блюдце налью!
Напряжение растаяло, все улыбались. Разговор вернулся к школьной теме, про то, как Котя теперь в раздевалке с девочками целуется, почти как «на пещерах», да и Федору «кое-что перепадает», про учителей, про одноклассников, про то, что кто-то же «заложил» их поездку, наверное из зависти, а теперь в выходные с класнухой и физруком все должны будут ехать – не очень-то и хотелось! И так без конца, пока входная дверь не хлопнула.
- Мама пришла! -спохватился Олег,- пойдемте ко мне в комнату...
- Чай пьёте? – словно удивилась мама Олега войдя в кухню прямо из прихожей, - А чего печенье не достал? Ну ничего, сидите. Я сейчас. Мешать не буду, - она поставила сумку у холодильника и ушла в комнаты.
Но разговор уже прервался. Котя вспомнил, что ему еще в магазин нужно идти, и Федор тоже засобирался.
- Ты долго еще болеть будешь? Когда в школу придешь? – уже в дверях Котяра вдруг вспомнил причину визита.
- Не знаю, может через неделю... - Олег нерешительно оглянулся назад, в открытые двери зала, но довольно громко произнес:
- Мне нового Вознесенского привезли, приходите, почитаем.
- Э нет, это без меня, - Котяря замахал перед грудью руками, а Федор улыбнулся и закивал головой.
- Завтра после уроков и приходите! - Олег тоже улыбался.
На другой день Федор пришёл один. Олег накормил друга обедом и увёл в свою комнату, на диван, читать «Дубовый лист виолончельный». Читал вслух Олег хорошо, с чувством, немного подражая поэту. Федор легко заражался от Олега поэтическим вдохновением, он чувствовал Олега и то, как он воспринимал стихи. Он чувствовал его волнение и волновался сам. Олег, когда они уже не сидели рядом, а лежали, прижавшись друг к другу на узком диване, всё продолжал читать, волнуясь все больше, до дрожи в голосе, до слез ... И Федор тоже был готов расплакаться, и его тоже переполняло чувство вдохновенной радости. Чувство почти счастья... Не хватало только какой-то малости. Вот сейчас что-то должно произойти! Вот сейчас оно будет! Оно! Счастье!
Олег замолчал, повернул голову к другу. Федор лежал, приподнявшись на локте и откинувшись на спинку дивана, глаза его сияли. Олег дотронулся пальцами до щеки друга, и, замерев перед Федором лицом к лицу, глаза в глаза, губы в губы, прошептал:
- Научи меня целовать тебя...
4
Школьная жизнь текла своим чередом: домашние задания, вредные и добрые учителя, директриса, каждое утро стоящая у главного входа, полугодовые контрольные, сочинения, торжественные линейки, нетерпеливое ожидание зимних каникул с новогодними елками в школе, в Доме железнодорожника, в городском Театре Драмы, в ТЮЗе, в Горисполкоме, а кому-то и в московском Кремлевском дворце... это уже от родителей зависело, кто как расстарается для своего чада.
Олегу отец с боем пробил эту кремлевскую елку и еще неделю каникул в Москве, подключив свои крайкомовские связи, да и сам в городе оставаться не собирался – в Москву! всей семьёй! Сына на представление да по экскурсиям, а сам с женой делом занялся – пора уж пора! дальше карьеру двигать, грех в провинции засиживаться, когда есть возможность в центр перебраться, эх бы! Только бы удалось, только бы не сорвалось! И для жены как-будто в Минздраве что-то отыскалось ... Ах, как хорошо всё складывалось тогда!
А Олег в Москве скучал. Без друзей. Без Федора. Елочное шутовство его раздражало. Днем экскурсии для школьников развлекали не долго, вышел уже он из того прекрасного возраста, когда готов был всему новому поражаться и восхищаться. Походы с родителями по магазинам и «в гости» - утомляли. Оставался вечерами чаще в гостинице, читал или телевизор смотрел. Душа томилась. Пару раз пытался дозвониться до Кота, но с разницей во времени не угадал и оба раза на Котину маму попадал, передал привет. А у Федора и телефона дома нет, звони – не звони...
После того дня, когда Олег, зачарованный стихами и близостью мальчишеского тела, близостью его губ, его дыханием, его присутствием, попросил у Федора немного любви для себя – вдвоем они больше не оставались.
Первый страх тогда был, что Федор просто засмеется и оттолкнет его от себя. Но не заcмеялся. Продолжал лежать, откинувшись на спинку дивана, на лице его не было испуга или недоумения. Он молчал и смотрел на Олега спокойно и внимательно. Даже слишком внимательно. Губы, его губы, такие желанные и такие близкие тогда, сжались светлым мягким бугорком...
Олег съехал с дивана и стал на колени, продолжая держать открытую ладонь у лица Федора, но уже не касаясь его. А Федор лежал, откинувшись назад, и смотрел Олегу в глаза. Мгновение, вытянутое в бесконечность.
«Я же люблю его! Почему он молчит? Что он мне скажет? А если он не захочет... если он ударит?! Что я сделал!? Какой я дурак! Что я наделал?!»
Олег и ждал, и боялся ответа. Он пережил за это мгновение всё, от звенящего счастливого «Я люблю тебя!», до ухнувшего в пустоту сердца и удара в лицо парализующим «Нет!»
- Не надо, Олег. Не надо...
Значит «НЕТ». Закрыв лицо руками, он опустил голову на диван перед Федором и замер. «Какой ужас! Какой позор! Что я наделал?!» Олег чувствовал себя полным идиотом. Ведь он почти признался ему в любви. Что же это? Почему? Волшебство момента пропало, как и не было никогда. Будто и не говорил он Федору ничего, а может и не говорил, а может только подумал... А почему же тогда он плачет? А Бог знает почему...
- Олег! Не надо, слышишь меня? Слышишь меня, Олег?
Федор стоял рядом, тоже на коленях и держал Олега за плечи.
- НЕ НАДО! Олег! – он слегка потряс его за плечи, - Ты не плачь... я пойду, хорошо? Ты не плачь...
Федор ушёл, не сказав больше ни слова. Олег не смог дома оставаться тоже. Его трясло нервной дрожью и вопрос: «Что я наделал?!» не шёл из головы. Недолго думая, он отправился к Котяре, но тот уехал на свое самбо. Пойти к Федору Олег побоялся, кружил вокруг его дома, пока не стемнело.
Вечером уже вернулся домой, сказал матери, что утром пойдет в школу и закрылся в комнате. Второй страх овладел им: «А если он всем расскажет?» Ночью так и не уснул. Страх открыться? Нет. Страх быть проклятым. Страх стать неприкасаемым, отверженным... Представил, как утром придет в школу и на перемене услышит за спиной что-то про себя, что-то унизительное, гадкое. Как директриса, улыбнувшись в лицо, за спиной прошипит «педераст», или еще хуже – позвонит маме и скажет это ей! «Боже мой! Она же обязательно позвонит! Она и отцу позвонит! Боже мой! Что я наделал?! Неужели Федор расскажет всем? Нет, не может быть. Он не станет. Он же меня сам поцеловал, тогда, первым! А я даже не целовал, только сказал... Я тогда скажу, что это неправда. Что это ложь. Мне поверят больше. А может он не станет говорить? Ведь я его люблю. Он теперь знает, что я его люблю, может и он тоже...полюбит... Но он ничего не ответил. «Не надо!» Что не надо? Ни слова больше не сказал. Ничего не понимаю. Только бы не сказал никому. А если Коту скажет? Боже, какой я дурак, что я наделал...»
Утром в школу Олег шёл на «ватных ногах», заставляя себя делать каждый шаг. Мама после завтрака посоветовала ему еще дома остаться, куда торопиться, бледный какой... Но он не мог остаться. Надо было увидеть Федора. Надо было понять, как быть дальше. Он шёл, а сердце замирало страхом от каждого звука, от каждого движения, направленного к нему... Он искал глазами Федора и шел медленно, еще и нарочно притормаживая. Вдруг увидел его с Котом уже перед входом в школу, побежал догнать, ввалился в тамбур, поскользнулся на обледенелой плитке, едва не упал и выкрикнул уже в спину «Привет!»
Федор с Котом обернулись одновременно:
- А-ха, привет! Уже выздоровел! Пойдем быстрее...
Кот что-то рассказывал, Федор кивал головой и посматривал на Олега. Улыбался? Нет не улыбался! И не хмурился. Всё, как обычно. Совершенно обычно. Как всегда! Как-будто и не было вчера разговора...
Котяра пошёл в свой класс и исчез в толпе школьников, махнув рукой на прощание. А Федор подхватил Олега за руку повыше локтя, и повел к кабинету. Так он никогда прежде не брал Олега. «Как-будто держит меня, чтобы не убежал...» - мелькнула страшная мысль. Ноги снова стали ватными. Федор шёл, немного склонив к плечу голову и поглядывая на Олега. Он не улыбался, говорил что-то о математике, и вдруг, на мгновение, как-будто споткнувшись, приостановился, развернул Олега к себе, и, не меняя тона, произнес:
- Всё нормально, Олег!
И они пошли дальше, в класс. Как всё просто! От сердца отлегло. «Всё нормально! Он не выдаст! Всё нормально!» Уселся за стол, обернулся назад. Федор кивнул ему с задней парты: «Всё нормально, Олег!»
«Всё хорошо! Всё прекрассно! Всё замечательно! Я его люблю! Всё нормально!» - Олег был готов петь.
На большой перемене столкнулись все трое (Котя тоже подошёл) у дверей столовой, как обычно штурмом взяли прилавок, купили пончики и по стакану молока, и отступили под напором волны младших классов. Прижатые к стене, доедая и допивая на ходу, отшучиваясь и отбрехиваясь от одноклассников, оказались Федор и Олег друг против друга. Тогда и Олег спросил его, мол, а ты-то как?
- Да, нормально всё! Ты мне Вознесенского дашь домой почитать?
- Дам конечно. Завтра принесу.
- Вот спасибо! - и Федор замолчал, глядя Олегу в глаза. Олег и потом часто замечал, что Федор замолкал рядом с ним – вдруг, ни с того, ни с сего.
После того дня хоть и звал Олег друзей к себе, да всё никак не получалось у них собраться всем вместе. Даже и у Кота не собирались. Перед новогодними праздниками вдруг обнаружилось, что везде надо успеть, мало что уроки, так и кружки, и рефераты, и спортивные секции - всё это как лавина обрушилась и похоронило под собой – только успевай вынырнуть, схватить минутку покоя, и опять – в круговерть домашних заданий и уроков. Потому и каникул ждали с нетерпением - не столько повеселиться на праздниках, сколько просто отдохнуть. Отоспаться.
Олег улетел в Москву еще до начала каникул. А в классе у них девочки активистки вновь собрали свой штаб и постановили, что Новый год праздновать следует весело! Вновь закипела организаторская работа, итогом которой стала замечательная вечеринка в ночь с 31 декабря.
Собрались все в квартире девочки из параллельного класса, ее родители были в отъезде и доверяли своей дочери принимать гостей в свое отсутствие. Все жили неподалеку, потому каждый с собой что-то к столу принес, ребята пришли с вином. Без Федора и Коти разумеется тоже не обошлось. Оба приятеля были бы нарасхват. Да только Леночка Черняховская сумела на своем поставить – Федор в тот вечер только ей мог комплименты говорить, и все её соратницы как-будто согласились. Поэтому Котя должен был отсутствие Федора для всей компании компенсировать, и честно сказать – старался на совесть. Еще несколько ребят из приглашенных не сразу в ситуации разобрались, и уже изрядно подпили, когда до дела дошло, но тоже старались от души. Праздник вышел на славу. Утро встретили кто-где, по углам.
Хозяйка квартиры в родительской спальне с двумя мальчиками уснула, Котя очередной своей визави про приемы карате рассказывал, кто-то уже и домой ушел... А Федор с Леночкой как заперлись часов в десять вечера в ванной комнате, так до утра там и пробыли, благо туалет был отдельный, никто в дверь не барабанил.
Коте Федор потом объяснил: «Мы шубу овчинную на пол бросили, сначала я ей стихи читал, а потом уснули, не заметили, как и утро наступило». Вероятно, так всё в действительности и происходило, потому что Леночка и сама одноклассницам про Вознесенского рассказывала, - не понравился ей современник, Есенин понятнее.
5
Олег, проскучав новогодние праздники в Москве, хотел только одного – быстрее домой! Родительские хлопоты о карьере, о почти уже решенном переводе отца в Главк, о подарках для «нужных людей» дома, о еще тысяче мелочей – раздражали и утомляли его. Столько времени было потеряно впустую. Как всегда в одиночестве, наблюдатель за чужой жизнью, он своей пока не имел. Как можно было бы назвать его одинокое существование жизнью, если даже ему самому было оно противно ...
Читал, бродил по музеям, смотрел на парочки влюбленных в художественных залах и завидовал им – они вдвоем, а он - один. Был бы Федор рядом, он рассказывал бы ему истории о картинах и художниках, водил бы он его по Москве, где бывал уже не один раз и знал центр, показывал бы ему московские чудеса, а Федор бы удивлялся и радовался... Но Федор был далеко, и Олег мог только мечтать.
Острое чувство отчаяния, черный ужас, оказаться открытым перед всеми, уже улёгся. Федор за последние две недели в школе ни словом не намекнул ему о том, что он теперь знает... Ни Кот, ни другие в школе ничуть не изменили отношения к Олегу, всё было как прежде с ребятами и учителями.
Единственное, что заметил Олег - Федор стал избегать оставаться с ним один на один. Он всегда звал Кота или еще кого третьим. В остальном же - оставался прежним. Он не боялся дотронутся до Олега, взять его руку, приобнять за плечи одной рукой, и положить другую на грудь, как бывало раньше, или повиснув на шее Олега, притворно застонать: «...брось, брось меня комиссар...» Новым было то, что он, иногда глянув в лицо Олега, вдруг опускал глаза и замолкал ненадолго, словно выискивая нужное слово, а не найдя - менял тему разговора.
Он не оттолкнул Олега, это было главным. Но сам Олег стал боязлив. Он не мог себя заставить так же свободно, как и прежде, обнять друга. Для него это была уже не просто игра. Обнимая Федора, он теперь обнимал бы его иначе, с иным смыслом, с иной целью. И этот иной смысл мог быть кем-то понят, расшифрован... Дальше мозг Олега отказывался рассуждать. Точка. Нет! Лучше сдохнуть!
Коротенькая статья в БСЭ определяла его желание любить, как «половое извращение». А при чем здесь пол!? Какая чушь! Он хотел целовать, обнимать, он хотел любить, но это было нельзя. Олег томился одиночеством.
И только когда стало подходило к концу его распроклятое московское сидение, он, чувствуя скорое возвращение, ожил. Уже сам он стал инициатором походов в магазины за подарками для родных и друзей, он таскал маму за собой по ГУМу и бегал по этажам, становясь в очереди за всякой ерундой. Вечером в день перед отлетом, когда родители отправились куда-то с прощальным визитом, он уже был готов выть от нетерпения, от страстного желания вернуться, увидеть, хотя бы только увидеть, только бы рядом быть, что уж там целовать, просто рядом быть!
В гостинице, в спальне родителей, увидел оставленные на трюмо сигареты, вытянул из пачки одну и закурил. Сидя на подоконнике под открытой форточкой и тонкой струйкой выпуская дым в столичное небо, решил окончательно, что сразу же по приезду встретится с Федором. Будь что будет, он не хотел терпеть дальше такой неопределенности. Через три дня начнется школа, опять будет некогда поговорить. Не в классе же. А на то, что Федор к Олегу домой придет, надежды уже не было. Вызвать на улицу и поговорить. Прямо у подъезда. Или на детскую площадку во двор уйти. Но обязательно поговорить. Чтобы он сказал... А что Федор, собственно, может сказать? Опять свое «Не надо!» И что тогда? ... А ничего! Там видно будет. Главное поговорить.
И утвердившись в своем решении, Олег успокоился и впервые за неделю уснул легко и крепко. Родители, вернувшись поздно, нашли сына спящим на диване, без постели, но будить не стали. Мама принесла ему одеяло, подтолкнула под щеку подушку, улыбнулась на сладкий сон взрослеющего сына и на табачный запах. Совсем еще мальчик, а уже такой большой!
Собираясь ко сну, она рассказала мужу про наблюдение директрисы Александры Ивановны, о якобы интересе Олега к Леночке Черняховской, а может и о взаимном интересе, кто знает?
- Да? - Отец Олега сосредоточился припоминая, - Я слышал, Валерка Черняховский в Московский округ метит, гляди-ка еще и вместе переедем.
- И Олег один не останется,- подытожила мама, выключая свет у изголовья.
6
На следующий день, протомившись сначала несколько часов в отстойниках Домодедово, а потом, уже сидя в самолете, и все восемь часов полета проклиная Аэрофлот и свои длинные ноги, Олег старался думать только о главном. Встретиться уже сегодня и поговорить. Что он сам говорить будет, Олег еще не знал, главное было, что скажет Федор.
Пока приземлились, пока вышли из самолета, пока багаж подвезли прошло еще часа два. В Аэропорту их ждала служебная машина отца, до дома доехали быстро, шофер помог и с багажом. Дома, даже не переодевшись, только выпив кружку чая, сорвался Олег на улицу. Мама удивилась: «Куда? Чего это вдруг? Спать не хочешь? Прилег бы до обеда. Потом уже что ложиться, придется вечера ждать...» Какой там спать!
– Я потом! Я скоро приду! - и убежал...
До Федорова дома – рукой подать, добежал за минуту, поднялся на этаж, а перед дверью - сердце ёкнуло: «И что я ему сейчас скажу?...», но уже поздно: сам не заметил как кнопку звонка нажал, так сердце затрепетало...
Дверь открыл Федор. Он удивился Олегу, но не дал ему и слова сказать, втянул в квартиру: «Раздевайся, пойдем в комнату, я один...». Помог снять куртку, завел к себе, усадил на диван, сдвинув скомканную постель к стене.
– Ты знаешь уже? У меня отцу рак ставят... Он в больнице, мать у него и сестра тоже поехала... так вот. А я один сейчас,- Федор тяжело вздохнул.
- Не знал. Только прилетел... Я тебя увидеть хотел. Вот и пришёл. Поговорить. Но если ты... сейчас тебе с отцом надо, то потом поговорим, когда-нибудь...
Федор сел на диван рядом с Олегом и сложив ладони вместе, сжал их коленками:
- Почему «когда-нибудь»? Я думал... Я ведь понимаю всё. Я к тебе тоже так... отношусь. Понимаешь? Люблю... тебя... наверное... Но, я не знаю.
-Ты любишь? - Олег обомлел. Чего он никак не ожидал, боялся и подумать, а вот как оно всё просто! Федор сказал: «люблю тебя»! Сердце закатилось в горло и сумасшедше прыгало, горячая волна прилила к шее, к щекам, к ушам. Олег раскраснелся, весь пылал.
-Ты... любишь? – Олег боялся себе поверить.
- Подожди, Олег, подожди. Нет, я не могу сейчас! Я просто не могу сейчас. Пойми меня. Давай потом. Не сейчас... – он на Олега не смотрел, глядя на свои колени и сгорбившись над сложенными руками.
-Федя, ты...- Олег придвинулся...
- Не надо, Олег, нет!
И оба замолчали. Федор – потупив взгляд, а Олег, с распахнутыми как крылья руками, был готов бросится к другу, чтобы... Он не знал, чего бы он хотел сейчас: обнимать и целовать его в губы, в глаза, в щеки, целовать его руки, прижимать к себе... — это было всё слишком реалистично, грубо, это он себе представить мог, но он чувствовал иное..., может быть только дотронуться, прикоснуться кончиками пальцев, почувствовать что-то в нем... Как до мотылька, чтобы не испугать, чтобы не упорхнул...
- Не говори никому, хорошо... - Федор не поднимал глаз.
- Что ты, Федор? Т-ты ведь знаешь, я тебя ... - Олег начал заикаться, впервые в жизни пытаясь произнести столько раз читанное в книжках и слышанное по телевизору - о своей любви.
Он ликовал! Страхи исчезли, восторг переполнял его, душа рвалась наружу, хотелось кричать от радости. Всё стало так хорошо!
Федор поднял голову и, глядя на Олега, слабо улыбнулся:
- Я тебя тоже, Олег, – он продолжал сидеть в своей нелепой «школьной» позе, положив ладони на колени и слегка сгорбившись спиной. Глаза его словно искали точку на лице Олега, чтобы зацепиться и стать твердо, но не находили. А Олег уже вскочил на ноги, отбежал к окну, вернулся, брякнулся на колени у дивана, рядом с Федором, заглянул ему в лицо снизу вверх, поразился его грустной улыбке и рассмеялся над своей собственной «щенячей радостью». Ему было хорошо! Он был счастлив!
- Олег, ты знаешь? У меня отец умрёт... – Федор говорил очень тихо, словно извинялся за то, что должен говорить сейчас об этом, что должен разрушить чужую радость, — Я не знаю, как мне...»
- ...быть, - закончил за него Олег и покраснел, теперь уже от стыда за себя. Ведь Федор сказал уже, что отчиму «...рак ставят», и впервые Олег от друга услышал слово «отец», раньше-то он избегал об отчиме и говорить. А Олег, оглушенный своим чувством, не понял, не услышал.
- Извини меня Федор. Я сразу «не въехал». Он где лежит?
- В Железнодорожной, в онкологии, - Федор снова замер в своей позе.
- Хочешь, я маму попрошу? Она там всех знает. – Олег слегка покривил душой, прекрасно зная возможности своей мамы. Но Федор помотал головой.
- А что она сможет? Врачи и так лечат. Но рак... Ничего не сделаешь.
- Лечить можно по-разному! Я поговорю сам. Ты не беспокойся.
Радость Олега, его влюбленность, требовала выхода, активного действия и теперь цель определилась – надо помочь Федору, и он готов для него на все! Он тут же вслух стал рассуждать, кого лучше из хирургов попросить делать операцию, что разумеется надо будет поместить его в отдельную палату, чтобы мать Федора могла при необходимости остаться ночевать рядом с мужем (он знал, что такое возможно - когда его отец с апендицитом попал в больницу, так и было), что надо будет заказать в Москву лекарства, что может быть стоит попробовать договориться о лечении в Москве, в Кремлевской больнице, но это сложно устроить, проще будет в больницу Министерства ЖД, что и о реабилитационном лечении в послеоперационный период лучше сразу подумать – разумеется в Сочи или Минеральные Воды, куда же еще! и питание нужно соответствующее, а в хорошем санатории об этом разумеется позаботятся, не по Гастрономам же телятину искать...
Федор не перебивал, ждал, пока Олег сам остановится. И когда тот наконец замолчал, рассказал коротко: «Он давно уже кашлял. После Нового года пошёл к врачу, температура поднялась, сделали рентген, резать уже поздно, положили так - для проформы, на обследование. Скоро выпишут. Матери сказали, что умирать будет дома. Он уже тоже знает. Вот и всё. Какие врачи, какая Кремлевская больница – что ты, Олег! Не выдумывай. Пошли к Коту. Посидим, покурим...
Олег согласился, застеснявшись своих фантазий и понимая, что болтал глупости, чувствовал себя неловко. Они быстро собрались и вышли из дома. На улице пронизывающий морозный ветер обжигал лицо, и холодил грудь под тонким московским шарфиком. Вокруг вокзальной площади лежали высокие полутораметровые серые кучи несвежего снега, трамвай отзвонив на стрелке, выехал на кольцо конечной остановки, где и народу-то не было никого... Высокая елка, безжалостно и одиноко воткнутая в асфальт посреди площади, стояла опутанная черными проводами с обычными, как в подъездах, электрическими лампочками, и мотала на ветру мохнатыми лапами. Было непривычно безлюдно, неуютно и холодно на душе.
Когда пришли к Коту, тот первым делом спросил Федора: «Ну как?», - и было видно, что он в курсе событий и ответа не требуется. Он просто обнял Федора за плечи и повел к себе в комнату, оставив Олега раздеваться в прихожей. Из кухни выглянула котина мама
- Здравствуй, Олег. Пришёл Федя? - и пошла вслед за ними.
«Вот я идиот!», подумал Олег про себя. Он смотрел, как Кот и его мама просто жалеют Федора, словно это он сам болен и нуждается в сострадании, и понимал, что этой-то малости он своему другу и не отмерил, что не его фантастические планы были нужны Федору, когда он об отчиме рассказывал, а немного жалости...
«Какой же я идиот!»- Олег расстроился окончательно. От первой радости того, что его чувство к Федору, его любовь к нему признана и названа вслух, не осталось и следа. Усталость брала свое, надо было идти домой спать, но он все не знал, как встать, продолжал сидеть. Его разморило в тепле и уже одолевала дремота, он чувствовал себя лишним.
Когда он наконец-таки собрался уходить и встал, Котя вдруг вспомнил о нем и стал настойчиво звать записаться в бассейн, расположенный совсем рядом с домом Олега, и принадлежавший Институту инженеров Железнодорожного транспорта, Железке попросту говоря. Олег плавал не очень хорошо и не увлекали его спортивные тренировки, но Кот так просил, да и Федор, когда Олег посмотрел на него, вдруг печально закивал головой, мол да-да, надо записаться, что он пообещал. Собственно, ему было понятно, почему Кот заговорил о бассейне – он боялся один ходить куда бы то ни было, и тянул с собой друзей всюду. Исключение он делал лишь для секции самбо, куда попал еще в начальной школе, и где уже давно был своим.
Дома Олег засыпал со смешанными чувствами: грусть и жалость к Федору из-за болезни его отчима, оглушённость неизбежностью его смерти и, где-то далеко-далеко, в тайных лабиринтах его души оставалось светиться радостное счастье – ах, любовь! Он тоже любит меня! Я люблю!
7
Каникулы закончились, школьные будни вновь серой лавиной затопили собой время. Третья четверть, длинная, унылая, ответственная, решающая, безрадостная... В отношениях друзей мало что изменилось.
Федор после того, как его отчима в феврале выписали домой, ходил хмурый. В классе все знали его обстоятельства и откровенно жалели. Олега такая открытость немного смущала, он не мог представить себя на месте друга, и чтобы его вот так жалели - просто не позволил бы. Он бы гордо молчал о своем горе, а там думайте, что хотите. Он и с Федором теперь не знал, как себя вести: постоянно сочувствовать невозможно, хотелось бы снова вернуть Федора к разговору о своих чувствах, но Федор этого избегал, и Олег уже опять страшился сказать вслух «Люблю!».
Глупая неопределённость раздражала его. Он не мучился больше ожиданиями, как сразу после нового года, все ж таки сказал ему Федор тогда о своем чувстве. Но просто сказал. Ничего дальше не последовало. Вообще ничего - ни единого прикосновения, ни единого слова, ни единой искры между ними с тех пор. Какая-то нелепость. Чувства его словно затаились. Некая уверенность в душе сохранилась – «да, я люблю», но тут же вырастал вопрос - «И что дальше?». Олег уже думал о своем чувстве к Федору не как о чем-то страстно желанном и преступном, а скорее, как о чем-то бессмысленном. Они встречались каждый день в школе, иногда еще и в мединституте, просиживали вечера за картами у Котяры, они говорили между собой обо всем, но ни о чем важном...
Олег пошёл с Котом в бассейн. Ему это не очень нравилось и отвлекало. К успехам спортивным он не стремился, а составлять компанию Коту, даже из жалости, не хотелось. Котя, со своими самбистскими навыками, начинал сходу рубить воду руками и дубасить ногами, вызывая усмешки даже у новичков, а Олегу претило выставить себя на посмешище. Он терпел, но и сам знал, что ненадолго его терпения хватит. В конце концов он посоветовал Коту зазвать с собой Федора. А Федор и хотел бы пойти, но не мог себе позволить развлекаться, когда в семье горе. Дома он тоже не любил оставаться, но так открыто, когда уже все знают, что отчим его умирает, пойти в бассейн с друзьями он стеснялся. Он словно бы соблюдал траур. Однажды за картами, у Кота дома, Олег заговорил об этом и, неожиданно для себя самого, очень логично обосновал нелепость такого поведения Федора при еще живом человеке, и при том, что тренировки никогда не относились к развлечениям. Кот усердно поддакивал, подключилась его мама и, всем миром, уговорили...
На следующий день в бассейн отправились втроем. Олег шел с надеждой, что в последний раз. В душевой, когда он глянул на Федора и увидел его впервые голым, то поразился насколько не соответствуют его прежние представления о нем открывшейся реальности. В обычной одежде Федор оставался мальчиком, подростком, невысоким, даже щуплым, на первый взгляд. Но без одежды перед ним стоял взрослый уже, сформировавшийся мужчина, с пропорционально развитым, красивым и неожиданно крупным телом. Тонкая, полупрозрачная, нежная кожа облегала четкий рельеф груди и живота, срисованный с античных статуй. Ноги и руки его бугрились мышцами, пах обрамлял венчик белесых волос. А когда Олег опустил свой взгляд к низу его живота – то поразился еще больше. Федор был уже действительно вполне взрослым мужчиной, в отличие от них, еще зеленых подростков с вялыми, неразвитыми членами. Заметив его взгляд, Федор усмехнулся, самодовольно и красуясь изогнулся, втянул и так-то подтянутый живот, поиграл мышцами груди, пропел наигранно: «Ах, Апполон, Апполон!» и развернулся к Олегу спиной, войдя под струи душа.
Олег, как завороженный, не мог отвести взгляда от друга. Он видел его по-новому. Уже не мальчик с нежным девичьим личиком, и даже не просто мужчина... Олег видел в нем, чувствовал, животную силу, и если бы он захотел его с кем-то сравнить, то выбрал бы породистого жеребца, как воплощение самца...
Потом в бассейне, он все пытался и через рябь воды смотреть на тело Федора. Федор видел это и не скрывал, что ему приятно внимание. Плавал он тоже красиво, совершенно свободно, легко. То скользил по воде без видимых усилий, то, вдруг ринувшись вперед, гнал перед собой волну, и сам, как волна, долетал до стенки, ловко крутанувшись, ударял по ней стопами, выбросив веер брызг, и снова несся по дорожке, сливаясь с волной...
Олег откровенно любовался Федором. И не только он один. Многие в бассейне наблюдали за новеньким, и девочки, и мальчики тоже...
Ночью Олег видел Федора во сне, голого, в бассейне, он плавал с ним, касался его рук, они плыли вместе под водой, Олег стал задыхаться, Федор тянул его из воды, выталкивал вверх, и - Олег проснулся в состоянии полного необъяснимого блаженства, в мокрых пижамных штанах и с сохранившимся незнакомым чувством чужого прикосновения ...
В бассейн Олег ходить не перестал. Поллюции, после того, первого раза, стали случаться с ним всё чаще, и сны мешались разные, но чувство, что Федор был там рядом, что ЭТО от него исходит, было всегда. И часто, даже днем, Олег не мог отделаться от желания увидеть Федора голым, или хотя бы представить его голым перед собой. Возбуждение его в такие моменты было очень заметным, и он старался не вставать из-за парты в классе, ну или хотя бы пиджак застегивать. Он помнил всегда коротенькую заметку о мужской любви в БСЭ и должен был теперь согласиться, что к полу его чувство имеет прямое отношение.
Все по-новому увидел вдруг Олег в своих с Федором отношениях. Он с первого дня знакомства хотел быть рядом с ним, хотел чего-то общего, совместного, нежного и откровенно-интимного, но тогда он и представить не мог, что значит такая близость в сексуальном смысле...
Нет, он знал, что значит секс, как это происходит, грубо говоря – как это делается между мужчинами и женщинами. Это много раз обсуждалось в деталях, рассматривалось на фото и отсутствие личного опыта, в его понимании, не имело большого значения. Знания уже были, и он мог себя представить в роли мужчины. Разумеется, с женщиной. Какой она будет, Олег мало задумывался – просто одна женщина, в которую он, возбудившись, войдёт и будет двигаться вперед и назад, до тех пор, пока сперма не извергнется в нее... И конечно он влюбится сначала, и она будет его любить, и в постель они пойдут по общему желанию изведать нечто новое, доселе запретное и приятное. А когда он влюбится, он почувствует сам, тогда и будет все остальное, и секс тоже. Всё это еще произойдет. Он еще просто не опытен.
А Федор? Он, ведь наверняка, уже имел секс с девочками. Он с Черняховской провел вдвоем целую ночь, об этом весь класс шушукается. И Леночка не отрицает, что была вместе с Федором. Про остальное оба помалкивают, но ведь все и так ясно... Хотя не всё: как далеко они зашли, это действительно любопытно... Наверное он её целовал, гладил, трогал везде, снимал с неё одежду, мял грудь (или целовал?), снимал с неё трусы...
У них, у женщин, всякие выделения бывают из половой щели, надо быть всегда осторожным. Олег припомнил картинку анатомического атласа с внутренним устройством женских прелестей. Ну да... Снаружи это выглядит гораздо приличнее, особенно если только спереди смотреть, и он тут же вспомнил другую анатомическую схему: снизу вверх, с разверстыми большими половыми губами и вытянутыми наружу малыми. Н-да...
И тут Федор должно быть возбудился, расстегнул штаны и своим членом вонзился в гостеприимно распахнутую промежность. Представленная сцена была скорее неприятна, но Олег уже не мог избавиться от картинки: Федор в школьном пиджаке и с голой задницей раскачивается на Леночке Черняховской, путаясь ногами в спущенных штанах. Интересно, а видела ли она его голым? Совсем голым? Как в душе? Где-то в иностранном фильме Олег видел эпизод постельной сцены, где женщина была одета, а мужчина стоял абсолютно голым перед ней. Олег бы так не смог, он стеснялся своей наготы, даже просто представив такое. Но Федор... а вдруг он сам разделся? Если она видела его таким, то тогда она конечно влюбилась в него...
Разве можно такого не полюбить? Все бабы влюбились бы в него, если бы увидели. И тогда она его тоже, наверное, целовала в губы и гладила по груди, по спине, по ягодицам... О да, конечно, она могла его гладить по заднице, когда он качался на ней как на качелях, она могла держать его двумя руками и уж не только за спину... Он сам представил себя на её месте, чтобы понять, как далеко открывались бы тогда возможности гладить и ласкать Федора.
Да, не только спину и попу, можно было достать и бёдра, и может быть еще дальше. Быть грудью о грудь, вместе вдыхать и выдыхать воздух, чувствовать его соски на себе, обнимать спину и шею, целовать лицо, губы, уши, трогать носом его волосы на виске, кусать его подбородок, и гладить ладонями сверху вниз, через всю спину, по округлой молочной попочке, по ногам до самых пяток, и спереди - от груди вниз, к ногам, вести руками через живот, в пах, пальцами невзначай по мошонке, и строчкой дальше вниз, к коленям, к стопам...
Ах как бы он мог тогда ласкать его... Как бы он тогда целовал его губы, как бы втягивал их в свой рот и держал бы там долго, не дыша... Олег представлял себя вместе с Федором, видел его голым в своих объятиях, он хотел чувствовать его, но... чувствовал уже собственное возбуждение, искавшее выход из сатинового плена трусов. Не умея совладать с собой, и не зная еще собственного тела, он мучился желанием до дрожи в пальцах, до полного изнеможения. Он хотел тогда быстрее уснуть, чтобы во сне «разрешиться от бремени» желаний, но это было совсем не просто - просто уснуть.
Олег осунулся, ходил бледный и взъерошенный. В классе он был подчеркнуто внимателен и вежлив с Леночкой Черняховской, остальных одноклассников, кроме, разумеется, Федора, казалось не замечал. По литературе проходили поэзию Есенина, девочки млели от избытка чувств, Федор, вдруг напрочь забыв Вознесенского, целыми днями не то пел, не то декламировал тихонько «Шагане, ты моя Шагане...», а Черняховская смотрела на него, как княжна Мери на Печорина.
Олегу были неприятны её взгляды на Федора, он видел в них зов, она хотела быть опять с Федором... Восьмое марта обошлось без дружеской вечеринки одноклассников. Олег был рад, что не нашлось в тот раз ни у кого свободной квартиры, иначе опять Федор был бы с ней. Теперь уже и апрель шел к концу, скоро майские праздники, а там - месяц только и экзамены...
У Федора дома по-прежнему все было плохо: отчим его умирал медленно, мучительно, кашляя по ночам до рвоты, страдая от боли каждым вдохом... Он получал уже наркотики, но они помогали только поначалу, а врачи дозировку увеличивать не хотели.
Мать Федора ухаживала за мужем, страдала вместе с ним, оставила работу, была сама уже похожа на тяжело больную. По ночам она не спала, так как муж не мог уснуть, а днем, когда он временами коротко засыпал, стремилась успеть хоть немного по дому.
Дети были предоставлены сами себе. Дочь, младшая сестра Федора, помогала матери сколько было сил. Да много ли от ребенка помощи... Федор помогал - не говоря ни слова, делал все что мать попросит, но после того, сразу же убегал прочь из дома и возвращался поздно.
Мужу оформили пенсию по инвалидности, деньги уж совсем небольшие, и надо бы было ей снова на работу идти, да сил уже не оставалось. Едва сводили концы с концами. По той же инвалидности поставили телефон в квартиру, скорую вызывать.
Олег сначала обрадовался возможности созваниваться, но потом не звонил – боялся услышать пронизанный страданием голос матери Федора. Если Федор не был занят в школе после уроков, или в мединституте, куда оба продолжали ходить на факультативные занятия, то оставались еще бассейн и боксерская секция, да и у Котяры хоть раз в неделю, а собирались.
В разговорах Федор домашних дел не касался и вопросы об этом не любил. На Олега он поглядывал иногда словно спросить хотел: «дальше-то что? что ж ты молчишь?». Но стоило только Олегу увидеть этот спрашивающий взгляд, как он сам уже, тушевался, иногда и краснел, не зная, как сказать о своих фантазиях, где его друг теперь был голым, и раскачивался в его объятиях, на нем, как на Леночке Черняховской...
Олег боялся об этом заговорить, поняв, что близость — это не только ласки и поцелуи, что есть еще кое-что, и это желание много сильнее других... И если во сне всплеск извержения наступал без всяких реальных телодвижений, то в жизни надо было куда-то воткнуться. Ясно куда, что за дырочка для этого могла сгодится... Представить такое для себя он мог, и с подробностями, но отдать себя для того же, оказаться в чьей-то власти - было страшновато.
И теперь получалось, что не Федор, а сам Олег разговора избегал, хотя понимали оба, что недосказанность, чувство какой-то незавершенности мешало им в их отношениях, не давало им стать до конца рядом. Надо было бы поговорить, поставить точки над i ... Но, чтобы говорить друг-другу про самое свое тайное, стыдное, сокровенное, нужно было новый порог доверия переступить, и не так это легко было.
8
Первомайская демонстрация, став преддверием домашнего застолья, радовала только своим окончанием. Толпы городского народа скопившись на улицах, прилежащих к центральной, потихоньку выползали на нее и текли очень неспешно к площади Ленина, где пройдя по квадратному периметру мимо крайкома и трибуны, лились дальше на Речной Бульвар, в сторону Вокзала, потому как в дни праздничных демонстраций городской транспорт ходил только туда, весь центр города был перекрыт милицейскими кордонами, и горожане к своему праздничному столу могли попасть только пройдя весь, заранее спланированный городскими партийными властями, маршрут.
Жителям привокзального района в этом отношении здорово повезло. Федор, пока стояли и перетаптывались в школьной колонне, рассказывал Котяре и Олегу как надолго растягивалось для него демонстрация раньше, когда жил он на швейной фабрике - пока до автобусов доберешься, да потом вокруг города ехать, до дому порой к четырем часам только добирались. А тут смотри-ка, только час дня, а они уже к дому подходят...
Конечно же никакого праздничного стола у Федора не планировалось. Решили собраться у Кота. Как только сдали в школьном дворе трудовику транспаранты, флаги и портреты членов Политбюро, разбежались по домам - отметиться и снова убежать.
У Коти дома были уже гости, как всегда, много – не протолкнуться, все говорили и смеялись, пили грузинское вино, и к вечеру взрослые начинали танцевать. В такие дни диван Кота заваливали верхней одеждой гостей, но мальчикам это не мешало.
Мама поставила им тарелки, уже полные, на письменный стол, вокруг которого они обычно сидели за картами, только сидеть было уже не на чем - стулья и табуретки перекочевали к гостям постарше. Уселись на полу, на ковре. Кот, конспиративно подмигивая обоими глазами, вытащил из-под дивана и показал бутылку настоящего вина. Стаканы были в столе.
Но свободно расположиться и попробовать хорошее вино у ребят никак не получалось. Взрослые часто заглядывали в комнату, то за своими вещами, то просто спросить о чем-нибудь... Федор предложил было поставить бутылку за штору и по одному подходить к окну, но и эта идея не прошла – окно выходило на балкон, где постоянно кто-нибудь да курил.
- И не покурим даже сегодня..., - притворно огорчился Олег, - чего ж ты Кот, не предусмотрел?
- Да что я? Смотри сколько народу собралось... А пойдем на овраги! Там и покурим, и выпьем, уж точно никто не помешает...
Погода стояла солнечная, на улице было тепло, да и идти - от силы четверть часа, все были «За»! Скоренько перекусили, замотали в штаны бутылку и стаканы, уложили всё в спортивную сумку и отправились в путь. Мама Кота только крикнуть и успела, чтоб к чаю не опаздывали, еще торт будет.
Оврагами у них называлось заброшенное место, со всех сторон поджатое частными дворами, которое летом использовалось жителями для выпаса коз и свиней. По слухам было это старое городское кладбище, где давно, уже поди с самой революции, никого не хоронили, но ничего и не строили. Вся поверхность, как морщинами была изрезана неглубокими, до метра, овражками, на дне которых всегда стояла черная вонючая вода. Ни оградок, ни могил давно там не было, росли невысокие ивы да кустарник, среди которого мальчишки играли в казаков-разбойников и другие красноармейско-бандитские игры, потому что место как раз к этому и располагало.
Они быстро нашли в кустах небольшую полянку, загороженную с трех сторон от чужих взглядов и открытую одним краем в неглубокий овраг, на другой стороне которого стояло сухое корявое дерево. Устроились на земле. Наломали сухих стеблей полыни и насобирали мелких палочек, развели костерок, достали наконец и вино. Но открыть бутылку нечем было – штопор Котя не мог из кухни унести. Стали вдавливать пробку внутрь бутылки, вспомнили анекдот, про «Вася штопор проглотил - открываем вилкой», развеселились, что и вилки-то нет, приходится пальцами давить... У Кота пальцы крепкие были, но короткие, он пробку с месте стронул, а Олег своими тонкими пальчиками ее уже во внутрь загнал.
Разлили по чуть-чуть, на пробу, отхлебнули – и полилось: «Ах, Ркацители! Ах, настоящее грузинское вино! Настоящий вкус! Какой букет! Сказка, а не вино! А я вот на Украине пробовал... А я в Ялте...А знаете как его делают? ...»
- Чё, пацаны, бухаете? С праздничком... значиться... – двое мужиков, потертого вида, не бритых, в драных серых телогрейках, из дыр торчала клочьями вата, стояли над ними и щурились на заходящее солнце. Откуда они пришли - никто не заметил. Все трое опешили от неожиданности. Замолчали.
- Да не боись! Не помешаем, мы вот тоже бухнуть тут собрались, - один вынул из-под полы 0,7 вермута, - Гля, а место-то наше уже занято.
Другой улыбался и помалкивал. Он был сильно моложе первого, и отдавал старшему право говорить и всем распоряжаться.
- Ничего, если мы к вашему огоньку? - Старший сел на корточки перед затухающим костерком, шаркнул пятерней по земле, сгреб несколько веточек, бросил в огонь, костерок задымил...
- Курите, пацаны? - он достал из-за пазухи вскрытую пачку Севера, щелчком выбил сразу четыре папиросы до половины наружу, протянул к ребятам:
- Угощайтесь, - Кот первый потянулся к чужому куреву, потом и все по одной взяли. Незнакомец подкурил от веточки, но в костер ее обратно не бросил, передал Федору, тот, подкурив, отдал дальше Олегу, Олег – Коту, Кот хотел уж в огонь бросить, да второй незнакомец обошёл кружок и взял веточку с угольком из рук Кота, подкурил сигарету, ухмыльнулся:
- Кто покурит Северок, тот получит триперок.
- Вот и кури свою Шипку. А мы настоящие покурим, бикинские,- старший незнакомец говорил в растяжку, тянул слова, словно раскачивался.
- Ты открывай давай,- распорядился он молодому,- мы чо, сюда покурить пришли, что ли?
Парень взял бутылку вермута, зубом потянул пластиковую пробку и сковырнул ее. Потом вынул из кармана граненый стакан, какие обычно в автоматах газ.воды стояли и налил до края. Старшой крякнул:
- Ишь ты, интеллигент, со стаканом ходит, видали пацаны...
Он взял стакан, подержал его немного перед носом, «Ну, давайте...», и большими глотками выпил вино. Сглотнув, вытряхнул последние капли из стакана на землю и отдал его молодому.
- Праздник сегодня, пацаны, грех не выпить, пейте, я угощаю...
Молодой налил второй стакан, опять до края и подал его Федору.
- Да мы своё, спасибо, у нас есть... – Федор показал на начатую бутылку Ркацители, но налитый стакан качался в руке молодого перед его лицом.
- Я угощаю, пацаны. Ты что, не понял? Ты обидеть меня хочешь, или что?- старшой откинулся назад, оперся на локоть и сощурился на Федора.
- Да нет, все хорошо, - Федор взял стакан,- спасибо, если угощаешь, - он отхлебнул и протянул стакан обратно молодому, но тот заулыбался и стакан не брал.
- Ты пей, пей... Не ссы, еще есть...- старшой постучал по ляжке, где под штанами выпирала цилиндрическая емкость.
Федор зажмурился и допил вино.
- Ты заешь чего-нибудь, - разрешил старшой
- Да ладно уж, - Федор слизнул каплю с верхней губы, - после первой-то...
- Ну, молоток, пацан, - старшой заулыбался, - а вы чего там бухали, дашь попробовать?
- Да, конечно. Вот попробуйте! Это настоящее! - Котяра вскинулся предлагать, но молодой инициативу перехватил, взял у него бутылку Ркацители, налил и подал стакан своему старшому.
То взял и опять откинулся на локоть, потягивая вино. Молодой налил вермут Олегу. Тот поморщился, но взял. Попробовал – сладко, пить можно, и выпил всё. Коту досталось только пол-стакана, но он уж так его растянул, минут на пять, не меньше. Докурили. Вроде и говорить уж было не о чем. Над компанией повисла тишина.
- Гы! Бля, мент повесился! ,- сострил молодой, - Ну чего, попробую вашу...- он взболтнул бутылку Ркацители и прямо из горлышка влил его себе в глотку – Фу, я думал, что покрепче, а это кислятина...- он скривил рот.
- Ты пацанов не обижай! – встрял старшой,- Они нормальные мужики, правильные, а ты ... – он не стал уточнять, кто есть молодой, а вынул из кармана пол-литру водки.
- На вот, начисли грамотно ... Пойду отолью, а то от вашей ссаться охота...
Поднялся и Федор: «Тоже отлить надо», пошёл поначалу за старшим, потом хотел отвернуть куда-нибудь в сторону, но заметил, что незнакомец машет рукой, подзывая его, и подошел ближе...
- Ты - пацан правильный, молоток, нук, отойдем-ка, я что покажу...
Молодой налил в три стакана водку - по половинке, не больше, вручил Олегу и Коту, и, не ожидая никого, выпил. Олег стакан молча отставил. Котяра тоже пить не стал - домой же идти. Но молодой их уговаривать и не думал. Захмелев, он полез снова за сигаретами. Олег тоже закурил, но свои, с фильтром.
Молодого потянуло на разговоры, он хотел рассказать что-то, наверное о себе, но говорил на таком матюгально-тарабарском языке, что ни Олег, ни Кот ничего понять не могли. Иногда монолог прерывался каким-нибудь вопросом из серии «А ты чё?», на который, собственно, отвечать не требовалось, было достаточно мотать головой, и не важно – соглашаясь или не соглашаясь со сказанным. Молодой между делом сгреб Олегов стакан и выпил содержимое, как воду, между двумя затяжками. Минут через пять он потянулся уже за стаканом Кота, но Котя вдруг передумал отказываться от дармовой водки (когда еще так придется, на шару), взял стакан в руки и отхлебнул. Первая проба ему не показалась хорошей. Он сдержал рвотные позывы, но стакан далеко от себя отставлять не стал.
Молодой на его водочные манипуляции смотрел равнодушно, он продолжил свой монолог, широко размахивая руками, доказывал ребятам что-то очень важное и явно ждал от них поддержки. Олег захмелел от выпитого вина, ему стало внутри тепло, чужая болтовня не раздражала, но хотелось тоже поговорить, рассказать про себя. Не этому туповатому молодому в дранье, и не Коту, тот тоже не поймет. Хотелось поговорить с Федором, ему рассказать, открыться наконец. Но Федор как ушёл, так и нет его, уже сколько времени... А сколько уже нет Федора? Олег шевельнулся подняться на ноги...
- Куда? – молодой замер с вытянутой к горизонту рукой, - Сиди тут!
- Поссать... – Олег на ноги так и не встал, поднялся только на колени, и так на карачках двинулся в ту сторону, куда ушел Федор. Молодой рассмеялся на слабость Олега, но сам особенно не напрягался вставать, по-прежнему разводя широко руками, он втолковывал уже одному Коту о чем-то своем важном.
Голова еще соображала, а ноги уже не слушались. Где-то он уже такое слышал. Олег отполз подальше и снова попытался встать на ноги: «Как писать-то на коленях, себя всего оболью». Получилось не сразу и на ногах он стоял не твердо. Качаясь, он добрел до какого-то невысокого дерева, справа и слева от которого поднимались непролазные кусты, прислонился к нему спиной, встав лицом к тропинке, по которой пришёл и, наконец-то, смог пописать. Тут он задумался, припоминая что-то важное, что нужно еще сделать, но вспомнить не мог. Какой-то нелепый, мычащий, надрывный звук, ритмично повторялся и мешал ему сосредоточиться, отвлекал от мысли. Он стоял, прислонившись спиной к невысокому стволу и прислушивался.
- Ы-ы-х, и-ы-х, м-ы-ы-х, м-и-ы-х,- он слышал явственно где-то рядом. И вдруг он почувствовал спиной, что дерево, на которое он облокотился, отзывается легким тупым ударом на каждый такой «ы-ы-х». «Бред какой! подумал Олег, - «напился пьяный и мне теперь мерещится». Он отшатнулся от ствола, но звуки не прекратились. Удерживая равновесие, он прошел еще пару метров вперед по тропинке и заглянул за кусты.
Здесь за кустами, с другой стороны от дерева, у которого он только-что писал, стоял старшой в своей драной телогрейке со спущенными штанами, накрывая что-то перед собой руками и толкая своим задом вперед, к дереву... Он долбил кого-то головой о ствол... Олег понял, что происходит, только когда вломился в кусты и старшой обернулся, открыв взгляду, что держит левой рукой Федора за свитер, наклонив его от себя и уперев головой в дерево, в правой руке у него был нож... Брюки Федора валялись на земле. Федор всхлипывал и ухал, каждым толчком ударяясь о дерево головой. Олег заорал и кинулся к ним, но старшой, продолжая толкать задом, поднял правый кулак с ножом и поставил его вертикально, на спину Федора, надавив так, что Федор прогнулся под острием и выдохнул долгое высокое «А-а-а-а..!». Олег замер.
- Убью, бля! – старшой убрал со спины нож, заведя руку куда-то вниз, к его животу, и продолжая толкать все быстрее, быстрее...
Федор сложил руки на стволе перед головой, глянул назад и увидел Олега: – Не... смотри... Олег! Я... прошу... не... смотри! Не... смо...три!
Олег окаменел, он стоял так близко, что мог дотянуться руками до обоих, как он мог не видеть... Ему стало нехорошо, голова закружилась, он повел руками вокруг и осел на колени. Он не мог уже открыть глаза, когда чужие твердые пальцы схватили его за волосы и запрокинули голову назад. Другая рука, обхватив снизу челюсть, больно вдавила вместе со щеками пальцы в рот. Олег захлебнулся рвотой, и, пытаясь вырваться из цепких рук, повалился вниз, к земле, закашлялся, выплевывая блевотину изо рта.
9
Он плохо помнил, что было потом... Как рассказывал Кот, сначала на поляну вышел старшой и сказал что-то второму на своем блатном языке. Тот сразу поднялся, и они ушли, даже оставив почти полбутылки водки. Потом вышел Федор и позвал его помочь Олегу.
Олег лежал в кустах, весь облеванный, и только мычал. Они вдвоем подняли его под руки и вывели на полянку, к костру. Пока ходили за Олегом, мужики вероятно вернулись, забрали водку и сумку со штанами Кота. Сумку было жалко, модная, через плечо, на тренировки ходить. Олег стонал и просил пить. Федор был тоже весь в грязи. Воды чистой в оврагах отродясь не было, и Федор пошёл с пустой бутылкой, просить воду по дворам. Кот остался рядом с Олегом и держал ему голову, чтобы тот не захлебнулся, если опять блевать будет. Но Олег больше не блевал, а только просил пить и говорил, что старшой их обоих... короче, оттрахал. Олег стал плакать и ругаться на старого мужика и на Кота, который здесь сидел с другим, когда их там насиловали. Но Кот был не виноват, он ведь не знал, они даже не позвали его на помощь, а теперь получается, что он один виноват.
Потом вернулся Федор с ведром воды. Они умыли Олега, дали ему попить. Сами попили. Кот спрашивал у Федора, что случилось, но тот не говорил вообще ничего, только головой мотал. Олег уснул на земле. Уже вечерело, надо было домой возвращаться. Федор сказал, что Олега одного не оставит, будет с ним, если понадобится, то и до утра, а Коту лучше домой пойти и принести чего-нибудь поесть и одеть на Олега, а то у него вся куртка заблевана, как домой идти.
Кот побежал домой, и как не торопился, всё равно обратно возвращался уже в сумерках. Что там было у них со старым мужиком он не знал, но встретиться с ним еще раз Коту не хотелось бы. Поэтому, когда на улице увидел он трех ребят из их школы, хоть и не дружили особенно никогда, попросил их Кот помочь Олега из оврагов вынести. Ребята помочь согласились, и на поляну они уже всей гурьбой вывалились.
Олег уже проснулся, был хмурый и злой, поднялся тут же уходить. Из-за кустов Федор вышел, прихрамывая, за бок рукой держался. Кот только спросил, не ранен ли? Тот головой замотал. Ребята переглянулись – явная неправда: Федор с каждым шагом морщился, только что не плакал. Да только кто его поранить мог? Может упал? Спросили – в ответ тишина, странно. Пошли по домам. Куртка, что Кот принёс не пригодилась - уже стемнело. Какая разница, в чем идти в темноте. И кушать тоже не стали, хотя он только несколько кусков хлеба со стола и схватил. Зря только домой гонял. Когда вышли на освещенную улицу, Олег свою куртку снял, вывернул наизнанку и в руках понес. Федор пошёл его до дома проводить. Когда с Котом и ребятами попрощались, Федор вдруг к Коту подхромал, отвернул его от всех и пошептал что-то на ухо. Кот закивал в ответ.
-Чего сказал? – спросил кто-то из ребят
- Да, чтоб не болтали зря, попросил – Кот был бесхитростным парнем.
Утром Федор сам позвонил Олегу, попросил прийти. Но уйти из дома сразу не получилось. Мама и отец ждали его пробуждения и, как только он положил трубку на аппарат, отец позвал его в комнату.
- С каких пор пить начал? Не рано ли? Ты хоть помнишь в каком виде домой пришёл? Ты на себя в зеркало глядел? На кого похож? – отец у Олега мог разговаривать вопросами. Перебить его или просто слово вставить было невозможно. Лишь бы дома не запер, а я потом с мамой поговорю, она поймет...» - подумал Олег, разглядывая свои тапочки.
-Что пили, водку поди? В милицию еще не забирали? Хочешь в вытрезвителе ночевать, дома уже не нравится? С кем пили? Говори! - потребовал отец.
Промолчать было нельзя, надо было что-то придумывать. Олег уже чуть не сказал, что с одноклассниками, но потом испугался - может начать звонить, обвинять, что ребенка напоили... лучше наверное будет сказать, что не знает с кем, но этот вариант он еще не продумал. Голова плохо соображала. Пока он размышлял, как бы лучше промолчать, в гостиную заглянула мама: «Спецсвязь!»
-Черт! Стой здесь, - распорядился отец и вышел к телефону в свой кабинет. Ему часто звонили по спец аппарату когда он был дома, это значило – с работы и что-то важное. Олег мялся с ноги на ногу, придумывая что лучше сказать. «Не называть же Федора и Кота, отец тогда запретит с ними встречаться. А кого тогда? Этих трех пацанов, которых Кот с собой привел? – уж лучше вообще промолчать, не дай бог отец начнет копаться, да допрашивать... У него ума хватит...»
Отец захохотал в кабинете: «Да что ты говоришь, а Корвалан тут причем? Что-о-о?» , Голос его перешёл в другую тональность – «Что-о? Бля-ать? Где? Как в центре? Чем написали? Кто?» - Явно что-то случилось. Он заорал в трубку:
- Все материалы ко мне! В кабинет! В Москву уже..? Что ГБ? Что они там о себе думают, их косяк! Я еду! - и еще через пару секунд командным голосом распорядился – Машину. Срочно!
Он вылетел из кабинета с лицом кирпичного цвета и кинулся в спальню одеваться:
- Сволочи! Пожрать не дают спокойно...- и уже застегивая пиджак, обращаясь к жене – Не знаю, как сегодня получится. Потом перезвоню. Провокация. Сволочи..! В такой день! – во дворе просигналила машина.
Олег подошёл к окну и выглянул: - Па! Машина пришла!
Отец пронесся мимо, уже из открытых дверей развернулся к Олегу и погрозил кулаком:
-А ты, не смей больше пить! Слышишь? Вернусь - выдеру! - и побежал вниз.
Олег зашел в ванную, глянул на себя в зеркало: левая скула и щека заплыли красноватым синяком. Он не помнил, чтобы его били по лицу, вероятно когда отключился... Олег вспомнил момент, когда ему стало плохо и тошнота опять подкатила к горлу. Гадость! Как это все гадко! Лучше бы действительно отец выдрал, чем это. Что теперь? А Федор... Ему еще больше досталось. Господи, за что? За что он их так, этот старый козел? Что они ему сделали? Какая сволочь! Какая сволочь! Убить его за это! Как теперь дальше…?
Он ополоснул лицо и зашёл на кухню:
- Мам, я есть не хочу... Мне уйти надо, ненадолго. Мам, можно?
- Нельзя. Сначала сядь, поешь. А потом все мне расскажешь. А там посмотрим: стоит ли тебе ходить куда-то, или лучше дома посидеть.
- Мамочка, миленькая, я не могу сейчас. Мне очень надо. Мне очень-очень надо! Я тебе все потом расскажу. Мамочка, мамочка моя...- он подошёл к матери и она обняла его, уже почти взрослого сына, у которого уже борода лезет, а он всё еще как ребенок, готов вот-вот заплакать...
- Ты хоть скажи что у вас случилось, вы что, подрались? Кто тебя ударил? Куда ты сейчас собрался? Время - восемь утра. Все спят еще наверное. Кто тебе звонил? Это после вчерашнего что ли, звонки ни свет-ни заря?
- Мамочка, это Федя был, ты знаешь, у него отец болеет... Он не был с нами вчера. Попросил помочь. Я не знаю что. Я пойду, ладно? Не сердись на меня. Я скоро приду. Хорошо?
- Молока попей! - она налила из ковшика разогретое молоко в кружку и заставила его выпить.
В коридоре зазвонил городской телефон. Олег взял трубку. Снова звонил Федор. Попросил какие-нибудь обезболивающие лекарства взять. Олег спросил маму, та удивленно пожала плечами («какие еще обезболивающие могут быть нужны, он и так морфий получает»), но достала из шкафа несколько упаковочных лент с таблетками:
- Аспирин или анальгин? Что случилось? Тоже побили?
- Ой, не знаю мама. Может зубы ...- он взял из ее рук несколько упаковок, - я позвоню, если что, телефон у него теперь есть...
- Но, не долго! Одень пуловер, куртка еще влажная. И пожалуйста - не долго!
10
Федор ждал его во дворе. Опустив голову, он сидел на лавочке у подъезда и смотрел в землю. Когда Олег подошёл, он поднял голову и сказал так, словно они и не расставались вчера вечером:
- Скорая уже уехала и мать спать легла, я, чтобы ты в дверь не звонил, сюда вышел. Вот греюсь на солнышке...- он снова опустил голову. Олег поежился от утренней прохлады и сел рядом на скамейку.
- Кот всем уже рассказал, что меня вчера мужик еб...- Федор сказал это не меняя голоса, так же, как и о своей матери, которая легла спать, и которую не стоит будить....- Мне уже звонили, спрашивали... Сначала его мать, потом отец его: сказал, что надо было в милицию сразу. Никуда я не пойду. Завтра и так вся школа будет знать...что я...
Федор не поднимал головы, сидел ссутулившись, сунув ладони между колен, как тогда, когда Олег после Москвы был у него дома. Олег посмотрел на его руки – рукава куртки были сплошь закапаны, слезы стекали по нейлону куда-то в складки. Олег протянул руку к его волосам, чтобы погладить, но Федор отдернул голову – Не надо, больно же...- под светлыми волосами на темени просвечивала багровая краснота.
- Боже мой, какой гад, что он сделал...! – Олег закрыл рот рукой - Какая сволочь! За что? За что он тебя... нас?
- Я про тебя не говорил никому, ты не бойся, никто не узнает про тебя...- Федор перевел дыхание, - У него нож был, понимаешь, я ничего не мог сделать, а он меня как шлюху... раком поставил, всю спину мне истыкал ножом, подонок, как я теперь..? Как? Как я в школу теперь пойду? Там все теперь знают… Как? – Федор не поднимал головы и прерывисто вдыхал воздух.
- Я не могу, Олег, я не могу так больше...- Федор опустил голову на руки и плечи его затряслись. Олег подсел ближе, обхватив рукой за спину и приткнулся головой к голове. Помолчали, роняя слезы. Федор успокоил рыдания, поднял голову и посмотрел на Олега:
- Тебе тоже досталось,- он дотронулся до его лица - Не больно?
- Пройдет. Синяк просто - херня, пройдет скоро...
- Не пройдет, Олег... – Федор сжал губы бугорком и замотал головой,
- У меня - не пройдет.
Олег вспомнил про таблетки, достал их из кармана.
- Он тебя сильно порезал? Ты вчера бок зажимал. Я-то пьяный еще был, извини, даже не спросил, как ты... Вот анальгин и аспирин мама дала.
- Ты маме рассказал? – вздернул брови Федор
- Нет-нет, сказал, что для зубов. Она не знает ничего. У меня всё нормально дома. Отца на работу вызвали, а мама отпустила к тебе, я сказал, что мы вчера не вместе были...
- Моя тоже ничего не сказала. Хорошо, что я телефон брал сегодня, когда Котяры звонили, а так бы точно меня в ментовку поволокла.
- А может попробовать, может найдут их.
- Ага, аж два раза найдут. Даже и искать не станут! Что им, никого не убили и ладно. А то ты не знаешь? А даже если и найдут – а как докажешь, что это они? Что, их отпечатки пальцев у меня с жопы снимать будут? Или у тебя с лица? - Федор осекся, - Ничего этим сволочам не будет. Этого козла старого, если только встретить где, да завалить, падлу, так он всегда с ножом ходит. И не один, ты заметил, да? Это он специально. Его уже, наверное, многие убить хотят.
Федор взял у Олега таблетки, повертел их в руках:
- Анальгин понятно, а аспирин? У меня температуры нет.
- Аспирин тоже от боли. Он тебе спину сильно порезал?
- Да нет, я вечером посмотрел в зеркало, на спине только царапины и на боку тоже. Он мне там всё порвал. Кровит сильно и больно. Пойдем в дом, Олег.
Они поднялись к Федору в квартиру, тихонько прошли в его комнату. Федор задрал рубашку и майку, показал глубокие царапины на спине и на правом боку. Потом принес большую эмалированную кружку воды из кухни, и спросил сколько таблеток нужно разу съесть, чтоб боли не было.
- Одной хватит, анальгин, - Олег был уверен.
- А если я три съем, может лучше будет? А то ведь я даже и ходить не могу...
- Давай, я справочник посмотрю, сколько можно.
- А справочник где?
- Дома, сгоняю быстро.
- А знаешь, Олег, если не три, а десять таблеток? Что тогда?
- Отравление будет.
- И что? что дальше?
- Нет, Федор, я не знаю, надо справочник посмотреть. Но то, что кайфа не будет – это точно. Они так и называются – ненаркотические анальгетики. От них кайфа не бывает вообще.
- А это жаль, что без кайфа. Знаешь, Олег, я в школу больше не пойду. Я не смогу. Я еще вчера думал, что так не смогу больше жить. Когда ты спал, а Кот домой пошёл, я все дерево искал повыше, а когда нашёл, оказалось, что этот козел мне не только штаны, а и ремень разрезал, я бы вчера еще повесился...
- Федя, не надо, что ты…?
- А что? Завтра в школу идти, а там и весь район узнает, а потом весь город. Ты как думаешь, если на меня все показывать будут и говорить, что его раком как пидора перли, это нормально будет? Я что отвечать должен буду – да, ребята, я тот самый которого старый козел имел в очко, и я теперь поэтому ходить не могу и сидеть тоже.
Федор лег на диван и взял таблетки.
- Ты как хочешь Олег, а я так не смогу – мне лучше бы еще вчера сдохнуть, там на месте, но от этого оказывается не умирают, от этого только задница сильно болит – он разорвал бумажную упаковку во всю длину, собрал в горсть все десять таблеток анальгина и втянул их губами в рот, пожевал, потом запил из кружки и взял вторую ленту.
Олег смотрел на него замерев: Федор убивал себя. Федор, которого он любил, которого он был готов ласкать и целовать, сейчас перед ним убивал себя. Зачем? Ведь он умрет. Ведь это навсегда!
- Федя, не надо, не делай этого, я же люблю тебя, Федя...
- Я не могу так, понимаешь, я лучше умру – он разорвал упаковку, таблетки рассыпались по дивану, Олег тоже стал собирать их. Штук пять, пожалуй, он успел спрятать в кулак. Федор протянул руку:
- Дай мне, Олег, пожалуйста...
- Нет!
- Пожалуйста, Олег. Я хочу просто умереть. Понимаешь? Дай мне их!
- Нет! Я ведь тебя люблю! Я не дам. Я лучше сам их съем. Это я, я виноват, я сказал Коту вчера про нас, я бухой был и сказал, а он всем растрепал. Ты из-за меня это сейчас делаешь, да? Я не хочу, чтобы ты умирал. Ты не должен. Федя, я не дам их тебе, – Олег спрятал кулак за спину и отодвинулся от дивана.
- Ты не виноват, Олег, просто у него был нож, и я ничего не мог сделать, а кто что сказал – это уже неважно. Я просто испугался, что он меня зарежет, понимаешь, я испугался, а он меня изнасиловал, в зад, как последнюю шлюху, как пидора. Я просто не хочу теперь жить, Олег.
Федор вынул откуда-то из-под себя еще несколько упаковок с таблетками и разорвал все одновременно. Таблетки выпадали из своих бумажных гнезд на диван, он рвал бумагу и выталкивал таблетки дальше, пока все не легли горкой перед ним, и тогда он стал их заталкивать в рот. Олег подбежал и попытался тоже схватить, но их было много, а в кулаке у него уже были зажаты несколько штук и они мешали, он не успевал за Федором. Тогда он засунул и те пять и остальные, какие успел схватить себе в рот. Собственно мысль о самоубийстве не владела им, он еще не успел подумать об этом. Как и о том, что же вчера именно произошло с ним, и как к этому следует относиться. Он даже не сформулировал вопрос: насколько это смертельно, когда тебя пьяного насилуют в рот. Но было другое, важное. Если Федор умрет, то он, Олег, что он будет тогда один, без него. Он ведь тоже не сможет быть один. Ведь он любит его, действительно любит...
- Я умру вместе с тобой. – Олег проговорил это, еще даже не проглотив таблетки. Он забрал у Федора кружку с остатками воды и выпил. Потом ему в голову пришла мысль, что на вокзале есть аптечный киоск и там можно купить анальгин, чтобы уровнять количество: похоже, что Федор съел таблеток больше, чем Олег. Это не совсем честно. Он сказал об этом слух. Но Федор был равнодушен к равенству. Дома он оставаться тоже не хотел. Лучше уйти сейчас, пока мать не проснулась, пока отец не кашляет, потом нужно будет что-то говорить, объяснять...
Они вышли из комнаты, Олег споткнулся и упал, на шум в коридор выглянула сестра Федора, Олег прижал палец к губам: «Т-с-с, не шуми...»
На улице было тепло. На вокзал они не пошли, а вышли к Речному бульвару. Здесь, чуть ниже трамвайного кольца, среди пышущих малиновыми соцветиями кустов рододендрона, стояла обычная парковая скамейка с литыми чугунными ножками и уложенными поперек них крашенными серыми брусьями. На этой-то скамейке через пару часов и нашел их Котя.
Когда мальчиков привезли в реанимацию они были уже без сознания. Как потом Олегова мама объясняла маме Федора, у них сначала отказали почки, им было очень больно, но они не могли уже двигаться и вероятно даже позвать на помощь. Потом они начали слепнуть, но мозг еще работал. Именно тогда Кот и наткнулся на них, кто-то из них сказал, какие таблетки они съели. Поэтому их сразу в токсикологию и привезли. Хорошо, что не в мед.вытрезвитель. Откачали их быстро. На вторые сутки уже оба могли говорить. Когда Федор пришел в себя, обе матери сидели у кроватей своих сыновей и плакали, он огляделся и спросил: «Зачем?»
- Что, зачем, сыночка? - спросила его мама
- Зачем, я выжил, мама?
Часть вторая (тоже выдуманная)
«...я принадлежу к тому поколению идиотов,
которые боялись не только говорить,
но даже и думать о своей гомосексуальности,
если кто-нибудь стоял рядом...»
Мы познакомились в институте. Он подошёл сам, в курилке, спросил как зовут, удивился, что «на картошке» меня не видел. Тогда это было обычным делом – сразу после зачисления в медицинский институт все новоиспеченные студенты отправлялись на два с половиной месяца в совхозные поля, помогать советскому народному хозяйству справиться с очередным урожаем.
Мне повезло, я не поехал, так как умел рисовать и имел справку от врача о слабеньком здоровье. Комитетом ВЛКСМ был оставлен при кафедре биологии работать «лаборантом», а проще - помогать готовить кафедру к новому семестру: убирать, рисовать учебные плакаты, помогать преподавателям готовить препараты и всякое другое. Короче говоря, дармовой рабочей силой пользовалось не только советское совхозное руководство, но и институтское.
Конечно же я имел колоссальные преимущества перед другими – я не ковырялся в грязи, не таскал тяжести, ел и спал дома, мог мыться когда захочу. Но зато я не имел возможности перезнакомится со своими будущими сокурсниками, и подружиться с ними до начала занятий. А я всегда трудно сходился с людьми. Там на полях, в условиях почти боевых, я мог бы себя никак не обозначать, просто быть одним из всех, и этого было бы достаточно, чтобы стать своим на курсе.
Оставшись на кафедре, поневоле я попадал в исключительные условия, становился особенным, чего мне жутко не хотелось, и в первый день занятий одногруппники косились на меня – кто такой? чем-то лучше нас? Я чувствовал неприязнь, ужасно этим смущался, хотя ничего не мог уже сделать.
И вот, в тот первый день начала занятий, когда после вводной лекции я уже было решился в очередной раз изображать из себя гордое одиночество, ко мне подходит в курилке паренек, этак заинтересованно спрашивает как меня звать, что я курю, почему «Космос», почему не болгарские, где я живу, действительно ли я рисую, посматривает на меня по доброму, с любопытством, и ведь надо сказать очень симпатичный парень, да уж...
Красивый? Нет, не то... совершенно без какой-то там особенной красоты, очень простой и тем еще больше симпатичный. Он и роста был не выше меня, волосы светлые, лицо почти треугольное, выступающий сильный подбородок. С ямочкой. И на щеках, если улыбался, тоже ямочки... А глаза золотисто-карие, так и светились. Очень спокойный и светлый взгляд. Когда улыбался, он еще и прищуривался слегка. И кожа нежная, как девичья. Но больше ничего девчачьего. Настоящий пацан, каким и я всегда хотел бы быть, но было не дано...
Он умел держать себя. Умел и силу свою показать, внушительно умел показать. Прямо посреди разговора, я и не заметил по какому поводу, засмотревшись на его лицо, на губы, он попросил уйти какого-то старшекурсника, внушительно попросил. Кулаки сжал и видно было, что сейчас взлетит и спикирует на него. Тот и убрался. А парень опять ко мне обернулся:
- Меня Федором зовут. Мы в одной группе. Ты ведь в 215-ой? Ты, если хочешь, приходи сегодня вечером ко мне. У меня ребята соберутся, посидим... Я на вокзале живу. Надо же начало семестра отметить! Вот адрес.
Он воткнул окурок в губы, вытянул из сигаретной пачки кусок фольги с бумажным подкладом, и, щурясь от дыма, написал на нем огрызком простого карандаша свой адрес. То, что карандашом, я отметил сразу – мало кто карандаш в кармане медицинского халата носить будет. У меня тоже был, правда не в кармане, в портфеле. Наверняка тоже рисует. И так запросто домой пригласил! Конечно же я согласился: еще бы я не хотел, приду конечно, после занятий домой портфель закину и приеду, мне до вокзала на автобусе 20 минут, не больше.
- Вот и хорошо! Только ты с собой ничего не бери, у меня всё есть. Ты груши любишь? Маринованные? – Федор улыбнулся, - у нас пять банок забродили...
Из нашей группы в гости были приглашены все парни, все трое, и еще два паренька из 216-й. У нас семинары проходили по некоторым предметам в одной аудитории для двух групп одновременно. Вот так на анатомии в первый же день и перезнакомились. Педиатрический факультет нашего мединститута испытывал хронический дефицит парней.
Квартира у Федора, в сравнении с нашей хрущевкой, была довольно большой, родителей не было, сестра спряталась у себя, а нам собственно хватало и одной комнаты, довольно просторной, наверное из-за отсутствия мебели – у стены стоял разложенный двухспальный диван и больше ничего. На диване лежал кто-то из друзей Федора со своей женой, укрытой ворохом одеял, все остальные уселись на полу, знакомились, ели груши и пили забродивший сок прямо из трехлитровых банок. Помню, что было очень свободно и легко.
Наши одногруппники оказались с Севера, один из них, Андрей, даже с Колымы, он читал свои стихи. Оказалось, что Федор тоже любит и знает поэзию, он много цитировал Есенина, а потом прочел вдруг поразительное: «Как будет некому и нечего сказать, строку из Гнедича так сладко повторять... Ни гроша медного, ни капельки на дне, Быть может некогда восплачешь обо мне». Я спросил, кто написал, но Федор промолчал. О своих поэтических попытках я помалкивал, стесняясь, да и знал уже, что после бражного компота не смогу прочитать ни одной строчки из своих виршей. Буду заикаться на каждом слове и конец обязательно забуду. Но никто и не настаивал, обошлось без моего выступления. Разъезжались по домам страшно довольные, с липкими от груш губами и пальцами.
Начался семестр. На лекциях приходилось строчить с бешенной скоростью, я удивлялся, как другие умудряются еще и поспать. К семинарам заданный материал часто нужно было зубрить – новая терминология, латынь, и анатомия с первого дня - только на латинском! Ко всему прочему радости добавляла кафедра Истории КПСС с легендарной Женщиной в Зеленом - старой партийной пропагандисткой, мумифицированной еще в шестидесятые, и уже изгнанной на пенсию из Высшей Партийной Школы, но воскрешенной где-то в тайных лабораториях КГБ и присланной на нашу погибель. Это сухое чудовище, встав за трибуну в лекционном зале, воздевало персты правой руки к небу и оглушительно, пронзая спокойное бурление студенческого собрания, вопило: ТОВАРИЩЩЩИИИ!!! Далее вся лекция строилась на многократном ввинчивании в мозг ТОВАРИЩЕЙ нашего социалистического светлого и яркого коммунистического будущего.
Одна добрая и отзывчивая к любой просьбе девочка на нашем потоке, страдающая базедовой болезнью, всегда очень пугалась и горько плакала, от начала и до самого окончания лекции. Плакала она всегда тихонько, чтобы никому не помешать, однако уже через месяц была в своем тихом горе разоблачена и наша седая, с зеленым отливом, пропагандистка ураганом сорвалась с трибуны, набросилась на несчастную и вытолкала ее взашей из зала своими костлявыми конечностями. Никто ничего не понял, но выводы сделали. Тишина в зале после этого стояла мертвая. А я перестал ходить на ее лекции. Было противно и все равно, ничего нового она сказать не могла. Дома у меня, ожидая сравнительного анализа, лежали тома много раз переписанной Истории начиная с Краткого курса ВКПб и заканчивая последним изданием 1974 года.
Я старался не отвлекаться от основного предмета – анатомии. Мы с Федором быстро нашли для себя новую, удивительно эффективную, методу заучивания. Я или Федор по памяти рисовал сначала весь скелет, потом каждую кость в отдельности и поверх рисунка надписывали названия анатомических образований. Разумеется, со стороны это могло показаться и карикатурой, но каждая, даже мелкая бугристость, на наших рисунках была видна и названа. Мне нравились эти совместные занятия - и заучивалось легче, и радовало, что не один. На препаровке Федор показывал класс, он знал это еще со школы! Все тридцать человек смотрели как он работает у стола. Я был горд за то, что имею такого приятеля.
Тогда я, пожалуй, еще не мог бы Федора своим другом назвать. Мы мало знали друг друга. Общались больше на занятиях. Он всегда звал меня к себе, но я сам стеснялся бывать у него запросто.
Какой-то непонятный приятель жил в его комнате с женой, а Федор поэтому ночевал в кухне на раскладушке. Когда я приезжал, друг этот очень пристально смотрел на меня, почти никогда не говорил. Его жена всегда лежала на диване, иногда поднималась в туалет или на кухню и снова возвращалась на исходное лежбище. Федор посмеивался, глядя на мое недоумение и цитировал чьи-то строчки: «...а сущность женщины – горизонтальная».
Иногда приходил Олег, школьный друг Федора, тоже ложился на диван, третим. Он носил очки с темными стеклами и подолгу смотрел на меня, думая, что я не увижу. Они переговаривались о чем-то мне неизвестном, иногда курили траву, иногда выпивали. Мне это было не интересно. Я был лишним в этой компании.
Федор, как мне казалось, был тоже будто лишний в своей квартире. Бывало и так, что вдвоем мы шли на улицу курить, а его друзья оставались в комнате, и курили там. Когда же мы возвращались разговор между ними сразу прекращался, словно им помешали. Как я после понял, в комнате Федора жил одногруппник Олега, которому не дали места в общежитии. Как так получилось – было не моё дело. Позже, когда этот лежащий приятель Олега исчез, я стал чаще бывать с Федором. Да и времени стало больше.
Кроме истории КПСС, я теперь старательно пропускал все занятия латинского языка по причине слишком хорошего воспитания и собственной вредности. Наша преподавательница-латинистка, маленькая незаметная женщина со стрижкой «каре», имела плохие зубы и еще при первом нашем знакомстве, объясняя группе Важность, Необходимость, и Безусловную жизненную Актуальность латыни, между делом поправляла языком пломбы, или может протезы, Бог ведает. Я сидел как раз напротив и черт меня дернул попробовать языком достать до своих еще непрорезавшихся зубов мудрости.
Преподавательница наша минут пять молчала, глядя мне в переносицу, потом втянула щеки и объявила перерыв. С тех пор я по латыни имел твердую «два» - как за устные, так и за письменые задания. Через месяц мне надоела эта клоунада, и я стал больше времени посвящать современной поэзии. У Федора я нашел за диваном сборник неведомого мне еще Вознесенского и выпросил почитать.
2
Мне нравился Федор. Нравился по-особенному. Он привлекал меня своей мужественностью, своим мальчишеством, своей открытостью. И чем больше узнавал я его, тем более привлекательным он становился. Он был не как все, он был открыт со мной, и мне тоже хотелось, казалось возможным, быть с ним полностью откровенным.
А это было для меня не так легко. Я знал свою особость еще с детства и уже свыкся с необходимостью всегда молчать и никому, не только не демонстрировать, упаси Господь, но даже не намекать про свои некоторые очень важные чувства и желания. Когда и как я понял, что мои чувства не похожи на чувства других мальчишек уже не помню, но, пожалуй, одно из ранних воспоминаний, когда в первом классе я влюбился в мальчика из учебника математики.
На картинке у аквариума стоял пионер и считал красных рыбок. Обычный конопатый пацан, он был очень сильно похож на старшего сына маминой подруги, в деревне у которой мы гостили летом, и я помнил его, помнил, как он вынул у меня из руки занозу, совсем не больно. Он тогда поймал меня плачущего за руку, усадил рядом, крепко как-то обнял, вероятно, чтобы я не дернулся, и одним ловким движением вытянул здоровенную щепку из моей ладони. Он был добрым со мной. Не так, как его брат, мой ровесник, который вечно посмеивался и доказывал мне во всем свое превосходство. Конечно, для них, настоящих деревенских пацанов, я был изнеженным городским ребенком. Я не мог ни плавать, ни кататься на велосипеде, и у меня не было рогатки. Мне было ужасно стыдно, что я такой неприспособленный. Младший из братьев взялся меня всему научить, но я оказался не способен и к обучению. Единственное, чем я мог гордиться, так тем, что не боялся кормить гусей, и они меня не щипали.
И вот, когда лето уже прошло, я увидел в учебнике картинку с пионером и понял, что люблю. Люблю того самого своего избавителя от занозы, а не какого-то абстрактного пионера из учебника. Я грустил о нем, мне не хватало старшего брата.
Помнится даже и всплакнул пару раз, хотя быть плаксой мне казалось уже совсем позорным, и я никогда и никому не рассказывал об этой своей первой влюбленности.
Позже, тоже в начальной школе, один из моих одноклассников вдруг открыл в себе талант рисования голых задниц и мальчиковых писек. Он рисовал их в своей тетради со всеми подробностями, наверняка подсмотренными в зеркало. Помню меня удивило не то, что он рисовал и даже не те подробности, на которые обычно самодеятельные художники в туалетах и на заборах не обращают внимание. Нет, меня взволновало, очень сильно взволновало то, что этот мой одноклассник, не скрывает свое знание таких подробностей, на которые нужно было бы специально внимание обратить. А это значит, что он смотрит на такие вещи, что он не такой как все остальные. Но ведь это опасно! Это могут и другие понять!
Я имел уже некоторый опыт рисования: помню разделил дома альбомный лист на две полосы и в каждую из них врисовал фигуру голого мальчика: спереди и сзади. На обратной стороне листа я еще и голую девочку нарисовал, но только спереди. Я был страшно горд тем, что на всех рисунках не забыл прорисовать лодыжки на ногах.
Правда моя старшая сестра увидела в рисунках другое. Нажаловалась маме, я выслушал нотацию и, глотая слезы, зарисовал стыдные места трусами. А потом порвал и выкинул к чертовой матери в мусорное ведро и сами рисунки. После того я не рисовал больше людей.
Да, я осознавал себя другим и понимал, что меня тянет увидеть не то, что было бы нормально для мальчика. В пионерском лагере я умудрился за шесть смен ни разу не пойти подглядывать в душ, когда там мылись девчонки, мне это было не интересно. Хотя нельзя сказать, что девочки оставляли меня совсем уж равнодушным. Я постоянно с кем-нибудь дружил. А одна, просто выйдя навстречу, неожиданно зажгла во мне такое сильное и необычное чувство, что снилась мне потом несколько раз и я до сих пор помню то, впервые испытанное чувство — это было сродни с ощущением стремительной влюбленности! Сейчас и здесь, немедленно! И она была вся как ветер, как сноп искр, как движение воды. Если бы я был тогда постарше, наверняка дело закончилось бы страстной любовью, но я был юн и чувство осталось в памяти как отблеск прекрасного взросления.
В школе, общаясь с одноклассниками, я избегал говорить на темы половых отношений. Иногда в компании со своим закадычным другом мы участвовали в подобных обсуждениях, где-нибудь среди кустов, за школьным двором, вместе с другими мальчишками, которые, как я тогда уже понимал, тоже ничего определенного не знали. Кстати, с моим другом я никогда не был о себе вполне откровенен. Мы дружили с первого класса и до самой его смерти. Как-то, он взялся мне рассказать про своего двоюродного брата, как тот учил его онанизму перед уходом в армию. Но тема мне не показалась. Я не поддержал разговора, нам было лет по десять. Я тогда бегал с другими мальчиками в мушкетеры играть, какой уж там oнанизм. Друг мой был другим – это мне было ясно и поэтому я никогда, даже уже и во взрослой жизни, не рассказывал ему о своих особенностях. Он умер от болезни совсем еще молодым человеком, ему не было и тридцати. Он ни разу не был с женщиной и страдал от этого, но ни сам он, ни я о сексе больше никогда не говорили.
Поступив сразу после школы в медицинский, я и не думал о своих тайных влечениях. Было некогда. В то лето я брал одну вершину за другой, наконец-то поверив в свои силы, доказывал в первую очередь себе самому, что я не слабак. Я ставил цель и брал ее. Каждым экзаменом, как в школе, так и в институте, преодолевал свое проклятие быть незаметным, чтобы не выдать себя невзначай. Тогда я первый раз был смелым, чтобы выйти вперед и повернуться ко всем лицом, занять первый стол, встать первым к ответу - я не боялся быть первым, и я побеждал.
Когда начались занятия мне еще предстояло выстраивать отношения с одногруппниками, которые меня впервые увидели и уже, кажется, осудили, за то, что «отмазался от картошки». Это тоже очень непросто. За свою школьную жизнь я так и не научился притворяться хорошим и добрым мальчиком. Я был таким, какой есть. Всегда держась в тени и будучи достаточно хилым подростком, я тем не менее оставался независим и говорил, то, что думал. Поэтому иногда имел проблемы, иногда и били немного. Но я никогда никого не закладывал и проблемы решались.
В институте говорить, что думаю, было неразумно. Я послушал маминого совета и предпочитал помалкивать. Мое «помалкивание» многими воспринималось как насмешливое, даже язвительное, и популярности мне на курсе не прибавляло. Если бы Федор в первый же день не подошёл ко мне сам, я надолго остался бы один в своем «трагическом амплуа непризнанного гения», как в консервной банке. Федор вытащил меня к свету, показал всем, что я не так уж и плох, и оставил в своих друзьях. С ним я мог действительно оставаться самим собой и говорить то, что думаю. Но, конечно, не обо всём я ему говорил.
Как бы я мог ему сказать, что влюбился в него почти с первого взгляда, когда не мог глаз оторвать от его губ, мечтая впиться в них прямо там в курилке? Что, не увидев его один день, я начинал маяться и ехал к нему домой, иногда и без звонка, наобум, придумывал какую-нибудь причину для чего зашёл, и оставался до вечера. Что я мечтал быть с ним всегда рядом. Что мне никто уже был не нужен, кроме него. Я любил его как своего старшего брата, которого никогда не было, и по которому я так отчаянно тосковал. Я любил его глаза и губы, и нос со шрамом, и его голос, его походку, его смех, его ладони... Я любил его всего. Он вызывал во мне такие сильные чувства, что сдерживать их было иногда невыносимо. Но я держался, потому что страх потерять даже такую малость, как видеть его и быть иногда рядом, был сильнее.
Я не мог представить его реакции на подобное признание. Я видел в нем нормального молодого мужчину, которому чужды сомнения в любовных делах. Он часто рассказывал мне о своих подвигах с одноклассницами, которые все перебывали у него в гостях. И с которыми он уединялся в ванной комнате, иногда по пять раз за вечер, приглашая одну за другой. Я был в той ванной комнате. Просторное помещение при желании позволяло вместить всех пятерых сразу. Дом у Федора был старый, еще сталинских времен, и стены были достаточно толстыми, чтобы не пропускать слишком явные возгласы радости. Я конечно же верил каждому его слову.
Федор не был так сковал как я, он мог говорить и о сексе, и об oнанизме, свободно назвал эрекцию своим именем и, сковыривая присохшую крошку с брюк, шутил: «ах, спущенка капнула...». Он был открыт, и это служило мне доказательством, что ему нечего скрывать, нечего стыдиться, что он вполне нормален в отношениях с женщинами, что он... не совсем такой, каким я хотел бы его видеть.
Как-то раз он рассказывал мне о своей школе и сказал, что был сильно похож на девочку. Так сильно, что его даже спутали. Это было, когда он с друзьями был на природе и к ним подошли какие-то мужики. Они сразу потащили Федора трахать. Он испугался, не хотел, но они не отставали и ему пришлось пойти. Единственное, чего он попросил у них, так это поссать, перед тем, как они его... Мужики согласились, но когда увидели, как он отливает, то рассмеялись и сказали, что приняли его за девушку, а он пацан и поэтому никакого траха быть не может. Потом они с этими мужиками еще и водки выпили.
- Ты представляешь? - продолжал изумляться Федор на глупость мужиков, - Они меня с девочкой попутали!
История мне тогда показалась абсолютно фальшивой, не идиот же я, чтобы такому верить, но, если Федор говорил, что так и было, я готов был принять эту историю, как есть, без доказательств, но и без комментариев. Я решил тогда, что он сходу сочинил эту глупость, чтобы убедить меня в его сходстве с девочками. Что ж, если ему угодно, я готов верить... Со школьного фото 8-го класса на меня смотрел мальчик, мало отличающийся от настоящего Федора, может быть не такой взрослый. Но уж точно, совершено на девочку не похожий. Он всегда был пацаном.
Эту историю я потом еще не один раз слышал. Бывая часто у Федора, я попал в орбиту его знакомств со студентами нашего курса. И он рассказывал про этот случай новым знакомым, которые были у него дома. Я полагал такую откровенность излишней и помалкивал. Андрей, колымчанин из параллельной группы, услыхав эту сказку сделал большие глаза и посмотрел поверх очков на меня. Мне показалось, что он хотел что-то возразить, но испугался грубого розыгрыша и искал у меня поддержки своим сомнениям. Я помалкивал, якобы «себе на уме». Тема заглохла сама собой, когда заговорили о стихах.
Андрей писал стихи и много, почти каждый день. Он читал их нам. Мне нравилось, Федор был более критичен, но даже не к стихам, а к самому автору. И каждый раз бывая у Федора или встречаясь с ним где-то у других знакомых, я слышал поразившую меня «строку из Гнедича», авторство которой Федор не открывал. Этот стих для меня так и остался навсегда связан с его именем. Я подозревал, был почти уверен, что это его стихи, а он просто из скромности не называет себя автором.
3
Не помню, как у меня это получалось, но я успевал даже и на свидания с девушками ходить. Моя особость не мешала мне быть с ними в хороших отношениях, если я не чувствовал неприязни или агрессии. Мне хотелось такой дружбы, именно дружбы. Вероятно, это ограничение было понятно для девушек, и они после первого свидания не искали со мной продолжения отношений, оставаясь ко мне добрыми знакомыми.
Конечно же, я рассказывал о своих свиданиях Федору, он слушал всегда внимательно, комментировал редко, ограничивался обычно восклицаниями, но был всегда добр ко мне в своих оценках. Странно, но я ни разу не слышал от него о его собственных свиданиях с нашими одногруппницами. Он часто говорил про бывших одноклассниц, иногда восхищался грудью («Ах, Ирочка, у нее такая грудочка..!») талией или задницей новых институтских знакомых, но в их обществе я его не видел. Впрочем, дома у него девушек я тоже не видел. В институте он часто бывал в компании Олега и его однокурсников. Видно было, что Федора знают на старших курсах, многие здоровались с ним. С некоторыми он о чем-то договаривался, уславливался о времени, они что-то записывали, обменивались пакетами с фарцовкой. А с другими он не хотел говорить. Иногда резко разворачивался и уходил сам, а иногда, как в первый день нашего знакомства, вдруг налетал на них и заставлял уйти.
Я не могу припомнить, учился Олег на втором или на третьем курсе тогда. Мне непонятны были их отношения, вроде и друзья, но у каждого своя жизнь, и они словно уже заранее знали, что у них мало общего дальше будет. Что их объединяло я не мог понять, пока Федор мне сам не рассказал, про то, как в школе было у него тяжелое отравление, таблеток они наелись с Олегом вместе. Хотели кайф поймать, да отравились. Когда их психиатры допрашивали они про несчастную любовь наплели и про стихи, а на самом-то деле все из-за кайфа было. Олег и сейчас травой балуется, кайфует. И очки поэтому у него с темными линзами, глаза-то красные.
Федор тоже носил очки. Они ему шли - прямоугольные линзы в тонкой металлической оправе. Где он только нашел такие фирменные в нашем городе? Хотя я уже знал, что он прифарцовывал, наверное, через фарцу и очки заказал. Его жизнь во многом оставалась для меня закрытой. Он не посвящал меня в свои знакомства со старшекурсниками, через которых шел «товарообмен» и со своими знакомыми девушками, хотя рассказывал о них часто и охотно. В такие минуты я любовался им - и так-то всегда эмоциональный, он с таким восторгом рассказывал об очередной пассии, что и меня «подрывал». И мне тоже хотелось таких романтических встреч, таких поцелуев, таких страстных уединений в гардеробе, или в комнате общежития, или даже за кулисами в актовом зале института, прямо во время лекции! Причем женщины его были всегда очень импозантны и все со старших курсов, даже шестикурсницы попадали в его объятия. Он очень тактично не называл их фамилий, и, если в институте на перерыве, кто-то из них проходил мимо него, он замолкал на минуту, провожал её взглядом, а потом, повернувшись ко мне говорил: «Видел? Это та, про которую я тебе рассказывал, с пятого курса. Красавица! Вот я её....». Лица красавицы я обычно увидеть не успевал и подробностей он дальше не рассказывал.
Но и так было ясно, что все у них было очень-очень хорошо. Я не завидовал ему, в силу своих скрываемых особенностей, но попробовать тоже хотел бы. Вероятно, хотел бы, если бы не стеснялся... Иногда я думал о себе как о возможном Дон-Жуане, а почему и нет. Надо было только научиться так же легко обходиться с женщинами как Федор, и они сами будут рады мне отдаться, это же ясно. Оставалось только набраться опыта.
Я тайно надеялся на помощь друга, но и сам не знал, как он мог бы мне помочь, не идти же на свидание вдвоем. А сам я при встречах с девушками быстренько находил легкую тему разговора «ни о чем», не давал им смущаться, не ставил в глупое или просто неудобное положение, и девочки, кажется, были сами мне благодарны, что так все легко и без проблем обошлось... Они тренировались на мне общению с парнями, язык оттачивали. А может я и ошибался.
То, что я был влюблен в Федора, нисколько не мешало мне думать о сексе с девочками. Но только думать. Дальше этого и они не звали, и сам я бы не решился. Собственно, даже просто прикоснуться смущался, где уж как Федор по груди гладить. Ну и самое необходимое – желание, его просто не было. Я мог быть интересным и увлекательным рассказчиком, часами болтать, и взяв под руку свою знакомую у дверей общежития, привести её туда же в целости и сохранности, протопав большой круг по окрестным улицам. Иногда мне было понятно их напряжённое ожидание чего-то иного. Они хотели бы говорить о любви, но - эта тема не была моей любимой. Я был «не готов».
Однажды, еще до сильных морозов, Федор вытянул нашу компанию на берег реки в районе Воронежской протоки, на «пещеры». Кроме его и меня поехал Андрей, парни из соседней группы, наши одногруппницы из общежития и девочка Оля, которая жила с ними в комнате.
Помню Андрей умудрился очень быстро напиться и лежал трупом у костра. Я был тоже изрядно пьян. Федор решил показать, как можно повеселиться и покатился с горки, но траекторию не рассчитал и ударился боком о дерево. С диагнозом будущие медики не задержали – перелом ребра или ребер. Надо было срочно возвращаться. Но Андрей идти не мог, его надо было нести.
Дамы наши быстро сориентировались и, пока не стемнело, отправились обратно. Осталась только их соседка по комнате. Я с ребятами взялись Андрея тащить на себе, но он не хотел, отчаянно сопротивлялся и кричал на весь лес: «Мама, меня никто не любит!». Федор держался за бок и лицо его перекашивало от боли при каждом вдохе. Темнело быстро. Чуть дальше от берега, на тропинке через распадок, было уже совсем темно.
Нести Андрея одному было невозможно, а вдвоем или втроем мы не умещались на узкой тропинке, и проваливались по колено в рыхлый высокий снег. В конце концов я встал на четвереньки и предложил уложить Андрея мне на спину. Один из ребят шел впереди меня и держал его ноги подмышками, еще один, сзади, держал его за руки. Так все мы могли оставаться на тропинке и худо-бедно двигаться вперед. То, что я по самое пузо проваливался в снег, идущие спереди и сзади не замечали, а сам я только чертыхался и месил снег окоченевшими руками в мокрых перчатках.
Андрей продолжал вопить о вселенской к нему нелюбви, что было абсолютной и обидной неправдой, особенно для меня - его задница давила мне на затылок и я, даже просто чтобы вдохнуть, а не набить рот снегом, должен был поднять на руках и свое и его тело. Федор и Оля прыгали и охали вокруг, но помочь ничем не могли. Мы выдохлись очень быстро, не прошло и четверти часа, как я запросился наружу, хотя бы чтобы отдышаться. На мое место встать никто не хотел.
Когда я выкарабкался из-под нашего никем нелюбимого товарища и оглянулся назад, то понял, что к утру мы до остановки автобуса не доберемся. За полчаса героических усилий, отнявших у меня все силы, мы продвинулись метров на десять. Правда тропинка позади нас стала гораздо шире. Федор с Олей ушли вперед искать помощи. Мы с ребятами перекурили, и я уже собрался опять снег трамбовать, когда вернулся Федор с детскими санками и одеялом, которые он взял у сторожей пионерского лагеря. Мы упаковали Андрея и дотянули-таки его до сторожки.
Там нас ждала девочка Оля и сторожиха из лагеря. Они уже накипятили воды для чая и приготовили штук двадцать одеял. Разумеется, что ночевать остались все. Тащиться через ночной лес по морозу и потом ждать неизвестно сколько городской автобус никто не хотел. Увалились спать кто-где. Я заснул было тоже, но скоро проснулся. Под одеялом меня гладила по голому животу чужая рука. Кто? что? почему? – вспомнил, что перед тем, как уснуть лез с поцелуями к девочке Оле, а она меня уговаривала поберечь себя для жены. Я подумал тогда, что у нее может быть гонорея, оттого и говорит про жену, успокоился, отвернулся и уснул.
Теперь она не спала и гладила мой тощий живот, старательно соскальзывая пальцами по резинке трусов, что-то шептала мне в затылок. Я был уже почти трезв, лежал молча и ждал продолжения. Вероятно, она поняла по дыханию, что я не сплю и расстегнула мне брюки, потянула их вниз, забралась в трусы... Я замер – это было новое в моей жизни – чужое прикосновение и куда! Бог мой! Да я писать-то не мог, если кто рядом стоял, стеснялся чужого взгляда. А тут чужие, женские пальцы, продвигались по моему полусонному органу вверх, к головке и обратно – вниз к основанию... «Она пытается возбудить меня, она хочет секса – ну что ж, посмотрим, как это будет...», - я развернулся к своей предстоящей любовнице.
Оля лежала со мной под одним одеялом и была голой. Когда я переворачивался к ней на другой бок, она спустила мне трусы и брюки пониже, полностью освободив доступ. Я хотел ее поцеловать в губы, но она отвернула лицо, только прижалась своими сосками ко мне, и начала быстро и очень неумело дергать мне член. Член реагировал на грубость вполне адекватно – ушёл в себя. Я подождал немного, но возбуждения не было. Тут я вспомнил про возможную гонорею и что должен себя беречь для жены, сказал, что мне надо в туалет и вылез из-под общего одеяла.
В сенях стояло ведро для малой нужды, но я постеснялся разбить ночную тишину жестяным звоном и вышел на улицу. Пока искал место, где бы пристроиться, за мной заскрипела дверь - Федор тоже вышел. Постояли рядом, поливая сугроб и не глядя друг-на-друга. Мой скромник, еще пять минут назад обломивший первый сексуальный опыт, расправился, как ни в чем небывало, и сливал воду.
- Ну что, как она? – спросил Федор и в его голосе слышалось ожидание развернутого рассказа.
- Да никак. У меня не встал, - жар, который полыхнул с моего лица наверное и в темноте можно было бы угадать.
Федор молча кивнув головой в знак согласия, что с этим не поспоришь, он всему голова. Потом мы вернулись на тропинку искать потерянные им ключи от квартиры. Луна стояла высоко и было достаточно светло. Ключи нашлись быстро, они лежали на снегу и блестели под луной как таинственное сокровище.
Федор со своими поломанными ребрами был тих, придерживал правую руку, и часто охал. Мы молча покурили и вернулись в дом спать. Я был благодарен ему за то, что он не расспрашивал меня о моей неудаче. «Чего было и начинать к ней лезть, идиот, еще и трусы с меня сняла, а член-то так и не поднялся, позорище какое!», - остаток ночи я спал плохо.
4
Учеба забирала и так-то много времени, еще больше чем в начале семестра, но совесть у меня была не спокойна. Латинский язык и история КПСС грызли меня с двух сторон каждую ночь. Староста группы, как-то, с полной комсомольской принципиальностью, потребовала от меня объяснений, почему я не являюсь на лекции по партийной истории и передала слова нашей латинистки, что в сессию я с такими оценками не войду. Тогда я еще совершенно не понимал, что значит не быть допущенным к сессии. Кто-то из одногруппниц удивился на мою наивность и рассказал, что это значит.
Было это уже в декабре, когда до меня дошло какой объем материала по латинскому я должен буду сдавать в дополнительное вечернее время, и то, только при условии, что наша добрая латинистка согласится вечером принимать «отработки». С историей КПСС можно было бы придумать какие-нибудь справки от врача, да и семинары я почти не пропускал, а латынь казалась совершенно неразрешимой проблемой. У Федора тоже было достаточно «хвостов», но он особенных переживаний по этому поводу не выказывал. Теперь после занятий мы разбегались по разным кафедрам сдавать когда-то невыученные темы семинаров и снова встречались лишь вечером у гардероба.
Однажды утром я не дождался Федора на лекцию и уже заранее переживал по поводу его вероятной простуды в такое напряженное время. Помню, что уже распланировал как можно будет успеть к нему заехать после второй пары на большом перерыве. Но спускаясь по главной лестнице к выходу, вдруг столкнулся с ним. «Значит все нормально, не заболел,» - мы поздоровались, пошли в курилку, и пока шли вниз, на ходу, между приветствиями знакомых и пустой болтовней, Федор сказал, что сегодня написал заявление в деканате.
- Какое заявление? Ты переводишься? - я недоумевал, как можно было переводиться перед сессией, и хотя разговоры о военном мед.университете, как о «запасном варианте», на курсе циркулировали постоянно, я не верил, что Федор на такое решится.
- Заявление об уходе,- Федор подкурил, - В деканате сказали, что вопрос уже решен. Завтра можно не приходить. Завтра я сплю. До обеда.
Наверное мое молчание говорило больше, чем любые вопросы, поэтому и ответ был всеобъемлющ:
- Да пошли они все..!
«Да, теперь все пойдут к такой-то матери, а я? Я буду теперь один биться с латинским и с кафедрой КПСС, ходить на экзамены, учить анатомию... В группе даже и поговорить не с кем будет. Опять один останусь. Дурак в собственном соку. «И скучно и грустно, и некому руку подать...» Надеялся вместе быть до окончания института. А теперь как? теперь и увидеться-то не сможем, только иногда». Сердце ухало в груди, и не хотелось уже идти сдавать «отработки», не хотелось думать о предстоящей сессии, не хотелось говорить, не хотелось ничего.
- Ты не грусти, Виталий! Все нормально будет! ,- Федор всегда называл меня полным именем, никогда не сокращал и не переделывал на Виталика,
Всегда с твердым взрослым окончанием «ий». Как-будто немного отстранялся от меня. «Виталий. Один. Опять. Только подружились. Только подружились и опять буду один. Так и не сказал ему ничего... Уже и не скажу».
- И куда ты теперь?, - спросил просто, чтобы не молчать.
- Я в больнице работать буду, с понедельника. В БСМП, на Павловича, в приемном покое. Я уже устроился.
- Быстро ты... Но ведь у тебя «отработок» мало осталось. Еще две недели до сессии, успеешь все, зачем уходить?
- Да, так...Надоело все. Пошли они все... «Петь я еще им буду!» - он часто вспоминал этот анекдот про мужика, который мог выбрать между «петь будешь или в рот возмешь», но в этот раз получилось не смешно и не к месту.
Мне нужно уже было идти на следующую пару, время поджимало. И не хотелось. Было такое чувство, словно уйду и больше никогда не увижу, никогда не встречу, что уйду навсегда. Не хотелось так уходить. Я не мог так уйти. Федор молча смотрел на меня и тоже не двигался с места. Я протянул руку, он подал свою. Мы стояли держась за руки и не отпускали друг друга.
Я это не сразу понял, но он наверняка почувствовал, что уходя из института он уходил от яркой студенческой жизни к обычной, рабочей, к серым утренним сумеркам, к толкотне в автобусах, изматывающему марафону рабочих часов, он возвращался на прежний уровень социальной несправедливости, откуда уже не удастся больше выпрыгнуть на ступеньку выше, в мир медицинской интеллигенции, в мир других надежд, в совсем другой мир.
-Ты придешь ко мне? – он спросил так настороженно, как-будто боялся, что я откажусь, что после его ухода из института я буду к нему относиться иначе.
- Когда?
- Да, хоть сегодня приходи. Придешь?
- Приду.
Без этой маленькой и необязательной условности, без этого обещания прийти, я не смог бы даже руку взять от него, это было бы для меня как предательство, мне пришлось бы оборвать что-то в себе, внутри... Уничтожить чувство. А я этого не хотел. Я дорожил этим чувством, Федор был дорог мне. Наверное, даже больше, чем я сам предполагал.
В группе после моего известия об уходе Федора никто не взволновался, даже и не расспрашивали. Такое равнодушие, как пустота в груди, под сердцем.
Вечером мы встретились, поговорили ни о чем и я уехал к себе. Было ужасно неуютно осознавать себя снова одиноким и неприкаянным. Было просто плохо. Я думал всю ночь, а утром вместо лекции зашёл в деканат и уволился из института. А потом отправился в больницу скорой медицинской помощи и устроился санитаром приемного покоя. Самое трудное во всем этом было рассказать маме, что я больше не студент. Когда сказал, стало легче. Совсем легко. Все проблемы исчезли. На мамино - «А что-же дальше?,- ответа еще не было. Предполагалось, что дальше будет просто жизнь, в которой я буду не один.
5
Весной Федора забрали в армию. Я так и не открылся ему. Мы работали всегда в разные смены, он только в ночную и сутками по выходным, я же по малолетству, только утром до 12 часов и только будни.
Когда я ему сказал, что тоже ушел из института он сначала даже обрадовался, но быстро помрачнел и устроил мне допрос, с чего это я вздумал. Много я не говорил, тоже мне родитель строгий нашёлся, но историю с латинским-то он знал, и знал, как практически невозможно было бы перепрыгнуть эту задолженность. Главную причину я ему тогда не сказал, а хотел. Я ждал от него этот очевидный вопрос – не из-за меня ли? тут бы и сказал, всё бы выложил, а там трава не расти...
Но Федор не спросил. Я видел, или казалось мне, что он мое ожидание чувствует, но не хочет этого разговора и самого признания, которое заставит нас по-иному относится друг к другу, которое не оставит выбора в первую очередь мне, потому что это я выдам себя ему. А возьмёт ли он, сможет ли меня принять такого? И ведь очевидно мне было, что к гомо он не имел никакого отношения. И понимая меня, мои чувства и желание близости с ним, он не хочет разрушить своим отказом нашу дружбу, не хочет обидеть и унизить меня. Он оставил все так как есть. Я счел тогда его поведение в высшей степени тактичным, почти мудрым. Он позволял мне любить его, знал или предполагал это и в тоже время оставался самим собой, не изменяя своей природе.
Я боялся остаться один и бросил все, пошел за ним, не спросясь... А теперь я опять боялся остаться один и поэтому молчал – и оставался один, хотя рядом. Замкнутый круг, проклятие одиночества, от которого не было спасения. Надо ли говорить, что мои знания секса оставались только теоретическими.
Мы виделись почти каждый день, но очень коротко, не более получаса. Он был всегда уставшим после ночной смены, я должен был быстро впрягаться в работу – пока не начали подвозить пациентов с поломанными конечностями заготовить гипсовые лангеты и бинты (я набивал бинты гипсовым порошком вручную). И пока я стоял у ящика с гипсом и раскатывал в нем очередной бинт, Федор пристраивался рядом покурить, перемолвиться парой слов или просто рассказать, что ночью интересного было.
У нас даже выходные практически никогда не совпадали. Может пару раз только. Я перестал бывать у него дома и Олега потерял из виду. Еще один школьный приятель Федора, молодой симпатичный грузин Кот, приходил иногда на дежурство к нему по выходным, иногда и я тоже заезжал, вот тогда и общались. Кот, самбист-каратист, все удивлялся как мы с больными справляемся и ужасно брезговал крови. А я «катал» бинты и для смены Федора и для следующего дня, зная, как иногда бывает сложно выкроить для этого время.
В Армию Федора проводили без меня. Писем он не писал. Я сдружился с Котом и иногда мы заходили к матери Федора узнать о его делах. От нее и узнали, что в июне будет присяга, и можно будет его навестить, во всяком случае мама его вместе с сестрой поедут точно. Мы с Котом не знали точной даты присяги, но оба загорелись.
Он учился в институте железнодорожного транспорта и в июне у него была сессия, надо было как-то время подгадать. Но не получилось. У меня же был положенный отпуск и проблем не возникло. Мама Федора сняла комнату в частном доме, в поселке, недалеко от части. Федор был рад нашему приезду, его отпустили на двое суток, он много рассказывал о своих приключениях с местными девицами, шутил, пару раз даже обнял меня за плечи.
У хозяйки дома в те же выходные приехала дочь из города, Татьяна, молодая и даже на мой взгляд, очень красивая женщина. Федор откровенно пялился на нее, она посмеивалась, играла глазами, покачивала бедрами и часто поправляла лямочки бюстгалтера на голых молочных плечах. В обед Федор встал из-за стола, шепнул мне, что уже не может терпеть и вышел из дома во двор. Мама его забеспокоилась, что долго не возвращается, но я успокоил, мол объелся же. Вон сколько привезли всякого.
Я Федора так до вечера и не нашёл. Ужинали во дворе, под керосиновыми лампами, вместе с хозяйкой и ее дочкой. Выпили, пели песни, все были довольны, сыты, пьяны. Ночью Федор опять исчез где-то в хозяйских постройках. Поговорить нам с глазу на глаз времени так и не осталось. Утром стали собираться. С хозяевами прощались тепло, те звали еще приезжать. Федор про ночное приключение помалкивал, был весь деловой и сноровистый, и, шутя, довольно громко повторял: «Ах витязь, то была Татьяна!».
Татьяна посмеивалась, и качала бедрами, даже когда просто стояла. Я смотрел на них и завидовал чужому счастью: «Эх Федор, Федор, что ж ты на меня-то даже и не посмотрел ни разу, эххх...» Позже, в июле, мы с Котом еще раз к Федору смотались, благо всего одну ночь поездом, его отпустили в увольнение, но всего на три часа, мы посидели под каким-то забором, выпили, закусили и распрощались.
Осенью и мне был черед в Армию идти. Военкомат отправил меня на курсы радистов, так же, как и Федора когда-то, и по всему выходило, что будем мы служить в одной части с разницей в пол-года. Значит судьба такая - вместе быть, опять я его догоняю, чтобы рядом встать. Про армейские порядки я был наслышан, да и Федор не скрывал, что бьют там молодых зверски, и потому надежда была, что друг если и не поможет, так худо-бедно подскажет чего.
Но не получилось в тот год – я свалился с приступом боли в животе, меня заперли в больницу, вскрыли живот, ничего не обнаружили, вновь зашили и стали наблюдать. Армия накрылась медным тазом, к моей великой радости, и потому еще, что после операции весу было во мне как у барана - 47 кг, еле ноги тащил. Выписали меня до начала призыва, но с таким дефицитом веса военкоматовские врачи велели мне дальше на воле пастись - получил отсрочку. Тогда-то и сговорились мы с мамой Федора ему ко дню рождения сюрприз сделать, в гости без предупреждения нагрянуть.
Я стал в цветочный магазин заглядывать. Все хотел розу купить ему на подарок, спрашивал, когда подвоз будет. Не привезли из оранжереи роз в ноябре, купил гвоздику. Красную. В бутоне, чтобы не осыпалась пока ехать будем. Воткнул я ее в большой китайский термос, налил немного воды и закрыл пробкой. Так и мороз минус 30 не страшен. Но не только гвоздика была мной в подарок Федору назначена.
6
В то лето, во время своих шпионских курсов радиоперехвата и радиопередачи, на работу я разумеется не ходил, времени свободного было у меня довольно много и успевал я по всем общежитиям нашего медицинского, а заодно и педагогического институтов прошвырнуться, все искал девушек для первого моего сексуального опыта, для возможной любви и веселого общения.
Нашел немало интересных, симпатичных, веселых и отзывчивых. Но вот только с сексом ничего не выходило. Стеснялся слишком. Хреновый из меня Дон Жуан получился. Так выполз я однажды из общаги в цокольное окошко уже часа в два ночи, после полного фиаско, такого полного, что и остаться дальше ночь скоротать было стыдно. Ехать мне на мою окраину можно было только на такси, или подождать троллейбуса, в пять утра первый уже на линию выходил. Решил подождать. Рубль сорок сэкономить. Зарплата санитарская не ахти какая была, чтоб на такси кататься.
Погода стояла славная - теплынь, без дождя и без ветра. Одет я был вполне прилично, в импортном плаще, в узких брючках и в модных остроносых апельсинового цвета югославских башмаках на широком и высоком каблуке. В руках, как всегда, был чешский кейс. Помню туда, помимо двух томов анатомического атласа, спокойно умещался еще халат, колпак и бутылка водки, 0,5 литра. Когда учиться бросил, носил исключительно халаты и водку. Атласы трепать было жалко.
Вот так, по-деловому, в два с небольшим ночи, шел я мимо парка Динамо, по центральной улице нашего города, напевал тихонько себе под нос почему-то песенку про Арбат и наслаждался теплой ночной темнотой с электрическими пятнами фонарей. Так как гулять мне предстояло еще часа три, то я не торопился и был даже рад, когда мне навстречу вышел в фонарный круг дядечка лет, наверное, сорока, совершенный дед для меня, тогда семнадцатилетнего. Поравнялись, поглядели друг на друга, в кейсе у меня звякнула полупустая бутылка и разговор завязался сам собой.
Заезжий журналист засиделся в местном ресторане, а когда проснулся за столиком, было уже за полночь, гостиница была уже закрыта. Можно было, конечно, попробовать разбудить дежурную, но он не стал пожилую женщину беспокоить. Очень сильно удивлялся, что у наших таксистов водки не мог купить, только агдам какой-то местный. Я не жадный был. Ту бутылку из кейса мы неспеша опрокинули за разговором.
Дядька хоть и старым был, а интересным. Про свое задание журналистское ничего не выдал, зато рассказал, как пару лет назад в нашем городе в ночь с первого на второе мая какие-то негодяи умудрились на центральном кинотеатре города, на фасаде, выходящем на красную линию, написать антисоветский лозунг: «Променяли хулигана на Луиса Корвалана, где найти такую блять, чтоб на Брежнева сменять». То, что блять на Брежнева, я оценил. Про Карвалана знал, что его как-то привезли в Союз...
- А что за хулиган такой ... ?
- Да это ж Буховский! Не слыхал?
- Нет, не слыхал. Да и хрен на него.
По ходу нашего передвижения в сторону ЦПКО он мне замалеванные буквы на кинотеатре показал. Тогда особисты торопились, чтоб народ не увидел, закрыли портретами членов политбюро, с Брежневым разумеется во главе. А ночью, просто закрасили весь фасад по новой, и обдирать надпись не стали. Кто знал, мог разобрать буквы под побелкой, толсто масляной краской прорисованные. Я лично сам видел. Но тема про замену Брежнева для теплой летней ночи мне не очень нравилась. Не потому, что я такой отпетый пионер-комсомолец был, нет. А только Бог ведает, что у того журналиста на уме. Может и так быть, что сегодня он мне продажную женщину с Брежневым тасует, а завтра сам на меня и настучит, журналист же.
И меня другой вопрос больше беспокоил. Неудачи с сексом после первой пробы в лесной сторожке, продолжались у меня уже больше полугода, и кого только я не выбирал, ну ни в какую.
- Да что ты! Ты это серьезно?
- Да уж куда серьезней...не встает и все.
Журналист не поверил, обсудили и эту проблему, потом он мне про свои любови во всех городах дальнего востока рассказывал, потом сказал, что в юности боялся очень женщин, ну не самих женщин, а что не получится у него с ними, пока его друг ему не помог. Тут и мне тоже интересно стало, про друга.
- Да просто все. Он мне поставил, а я потом их всех поимел.
- Как поставил?
- Мастер был, на все руки... Ну и доверял я ему. Больше, чем бабам. Друг все ж таки.
- Да как поставил, расскажи хоть. Есть у меня друг, попрошу –поможет.
Я в темноте лица его не видел, может и смеялся он надо мной. Но по голосу вроде все серьезно говорил.
- Это, говорит, не рассказывать, это показывать надо. Но я тебе это показать не могу. Это друг должен сделать, которому доверяешь как себе.
А мне уже похер было, какой он мне друг или не друг. Показать мог бы и сам, а там посмотрим, может и друга научу. Я, конечно, Федора имел ввиду.
В конце концов согласился дядька. Но уж больно он шугливый был, все меня по углам таскал: «ах, здесь светло! ах, здесь видно!». Уже около пяти утра, расцвело уже, за кустами у главного входа Центрального парка культуры и отдыха им. Малиновского, отсосал он мне по полной программе. Я на колени рухнул, стоять уже не мог, меня всего дугой выгнуло; отстрелялся как раз, когда троллейбус на кольцо выворачивал и своими рогами по стыковкам проводов грохнул. Так совпало синхронно, прямо как артиллерийский салют.
Поллюции были уже у меня прежде, а вот так, не во сне, да еще и кому-то в рот кончить еще не приходилось. Поставил, что и говорить, постарался. Я сначала штаны натянул, чтоб не засветиться, а потом уж растянулся на траве. А он как уткнулся носом в землю, так и лежал еще минут пятнадцать. Я даже беспокоиться начал, потолкал его немного в плечо. Он чихнул, проснулся. Встал штаны застегнуть. Я и не заметил, когда это он рассупониться успел, шустрый какой оказался - про себя тоже не забыл.
- Ну, говорит, Витёк, видишь, как я тебе хорошо помог. А долг-то платежом красен, знаешь ведь ...
- Знаю я, знаю. Будем считать, что за водяру ты со мной уже расплатился. Хорошего-то понемножку, а то, как бы не похренело...
Посмеялись, без обид всё. У меня сразу настроение поднялось, и даже говорить стал по другому. Наблатыкался у себя в «приемном» с бичами трепаться, вроде и не матом, а и не по-книжному, иногда потешно получалось. Я только со своими так говорил. Журналист тоже стесняться перестал и матюги сглаживать. Но мы долго не разговаривали. Я спать не хотел, но на ногах едва держался. Дядька еще пару раз про должок заикнулся, но мне это мимо прошло. Не знаю, чего он хотел от меня, я бы у него брать не стал. Он старый был уже сильно, точно уже за сорок. Старше отца. Но поставил, как надо. Опытный товарищ журналист. Я еще спросил его, а как с бабами теперь - сам автоматом встанет, или мне его, старого, каждый раз с собой звать придется? Опять посмеялись. Он ответил, что теперь мне надо бы всегда со рта начинать, а потом уже вставляться куда захочу. Меня такой поворот мало порадовал, потому как не всякая девчонка сходу согласится в рот брать, да и как предложить такое, если еще ни разу не трахнулись?
И так ведь совпало, что как раз в это время в город Андрей-калымчанин вернулся, он по каким-то делам должен был в институте быть. У меня он тогда не жил. В городе летом много северян приезжало в институты поступать, им общежитий не давали, приходилось квартиры снимать. У кого-то Андрей и присоседился. Выспавшись и умывшись, я поехал к нему впечатлениями о прошлой ночи поделиться, так уж меня распирало рассказать о необычном.
Но на квартире праздновали сдачу экзамена и поговорить не удалось. Я приехал в самый разгар вечеринки, как всегда со своим дипломатом, про всегдашнее содержимое которого уже многие знали. Что называется - подлил горючего. Кто там был, человек десять, сейчас никого и не вспомню, кроме Андрея и еще одного парня, из педагогического. Высокий, толстый, косоглазый, некрасивый. Но какой болтун! Рот у него не закрывался, все время он о чем-то рассказывал, смешил, разыгрывал, тормошил, ухохатывал, доводил до истерики, произносил тосты, и снова рассказывал, смешил... и так без конца. Жил он на другой квартире, в Южном микрорайоне, а здесь был в гостях. Поднимал настроение землякам после стресса на экзамене.
Вечером, когда я собрался уже домой уходить, он тоже со мной вышел проводить и покурить на воздухе. И сговорились мы с ним так быстро сейчас же к нему ехать, что я и докурить не успел, как он за курткой в квартиру побежал. В разговоре для приличия какие-то художественные альбомы упоминались, но мне с самого начала понятно было – он гомосексуал и зовет меня для секса, все остальное не имеет значения. Как я его угадал – не знаю, но уверенность была полная и оправдалась на сто процентов.
То, что он «красавец писаный» - меня мало волновало, то, что толстый – тоже, косоглазие его в темноте вообще незаметно, главное только одно – он готов со мной настоящим сексом заняться. Так это меня зажгло, что пошёл бы и не с таким. И ведь даже не думал про то, как роли распределим, кто кому девочкой придется, а кто кому мальчиком. Он был старше, я ему уступал думать. Вероятно, что и он меня угадал правильно. В постели мы были единым целым, даже когда уже расцепившись отдыхали: сначала он, а потом и я тоже стал оставлять руку на нем, чтобы чувствовать. И с ролями уладилось легко – он «и так и этак» любил, и мне с ним тоже «и так и этак» понравилось. Конечно же он старше меня был, почти на десять лет, но это не мешало.
Болтливость его закончилась сразу, как только в квартиру вошли, за всю нашу первую ночь только что и спросил меня:
- Тебе сколько лет?
- Восемнадцать уже,- соврал я едва дыша от волнения - в кровати лежали уже голыми, но он ко мне еще ни разу не прикоснулся...
- А с девушками уже спал?
Ясно было, что не девичьи прелести моего соседа по кровати интересовали. Я вспомнил вчерашнего журналиста, свою железобетонную эрекцию с пушечным семяизвержением и снова соврал, уже с чистой совестью:
- Еще и как!
Больше мы с ним той ночью не говорили. То не о чем было, то рот был занят. До сих пор удивляюсь как, но он меня взял в первый раз без боли. Все остальное присутствовало: и многократные оргазмы до судороги и потемнения в глазах, и пот, и сопли, и слезы радости, почти счастья.
«Почти», потому что здесь был только секс, а любил я Фёдора. Особой влюбленности от моего знакомого я тоже не чувствовал. Как только мы вставали из кровати, наши отношения сразу переходили на уровень делового ритма информационного обмена. Никаких чувственных сопливостей, никаких совместных прогулок «под ручку», никаких возвышенных любовей. Всё было почти идеально просто – договорились, встретились, провели время, иногда и всю ночь, и разъехались до следующего раза.
Мы встречались на протяжении еще около двух месяцев, пока болезнь меня не скрутила. А когда выписался из больницы и восстановил силы, то знакомый мой исчез. Съехал из квартиры и на курсе о нем ничего не знали, хотя я не слишком настойчиво и расспрашивал. О его гомосексуальности знали многие, мне не хотелось тоже прославиться. До встречи со мной он успел еще с одним пареньком из моей бывшей группы встретиться, но тот не таким покладистым, как я оказался – сначала будущему педагогу лицо набил, потом приехал в наш «мед» и в общаге рассказывал всем, как имел встречу с гомиком из «педа».
Мне об этом, когда я в больнице лежал, Андрей рассказал, вероятно с намеком. Только он один из наших общих знакомых знал, к кому я тогда после вечеринки домой поехал. Может быть ждал, что и я расскажу чего-нибудь, а может просто предупредил меня, чтоб я не ляпнул случайно о знакомстве. Я рассказывать ничего не стал, но «ввиду» поимел. Потом было так, что тот паренёк, который драчуном оказался, со мной здороваться при встрече перестал. Собственно, не очень и огорчил, хотя понятно было, что среди бывших однокурсников и про меня сплетни ходят.
Но всё это было не так и важно для меня. Я свою цель имел. Еще и прежде, когда мучился от смущения и не знал как Фёдору сказать о своей гомосексуальности, часто думал: «Ну скажу – что дальше? И спросит он меня - а зачем ты мне об этом? Что я ответить должен? Чтобы поцеловать его, чтобы он меня поцеловал? Не дети уже. Ясно же, что на сексе всё замешано. Ну и что ты мне предложить хочешь, спросит он меня. А я и не знал, что предложить, как это вообще выглядеть может, когда два парня вдвоем. Поэтому, когда я первый раз в кровать к педагогу залез и от страха, что он меня сейчас трахать будет, трясся и через раз дышал, меня одно успокаивало – опыта наберусь. Как бы там ни было, больно или уж гадко, все перетерплю, а знать буду, что же это за секс мужской, настоящий.
Конечно, это мне счастье выпало, что учитель мой таким опытным оказался - не порвал, не поломал и не изгадил. Он был нежным со мной. Так ласкать меня, как он, уже никто в жизни не мог, ни парни, ни женщины. Он учил меня как радость другу доставить, как его правильно до самой точки рука об руку довести, а если надо, то и дотолкать, чтобы потом летел он, мой милый, в счастьи своем незабываемом и на землю опуститься не хотел, чтобы вместе, одним рывком, из себя восторг выплёскивали, чтобы дышали одним ртом, чтобы бились одним сердцем, чтобы чувствовали себя одним целым...
И я знал для чего мне это нужно было! Знал я теперь, что не просто так скажу: «Я люблю тебя, Федя!», а теперь действительно сумею немного счастья ему подарить, коли до дела дойдет. И если уж не всегда, так хоть несколько минут, но будет он меня любить, и долго потом не забудет. Это я всегда в уме держал. И когда в армию к нему на день рождения ехал, то это свое новое знание, свое новое умение хотел ему подарить, пару минут счастья неземного и себя в придачу.
7
Поезд наш отошел от вокзала в девять вечера, уже давно стемнело, холод стоял лютый, несмотря на ноябрь, и окна вагонные были полностью заморожены – только огоньки расплывались по ледяным узорам, другого ничего и не увидишь, сколько не смотри. Приехать мы должны были рано утром. Надо было спать укладываться, но мне спать не хотелось. Пошел в тамбур покурить, пока мама и сестра Федора перед сном переодевались. Вернулся, когда, сестра его уже спала, а мама и не ложилась, оказалось - меня ждала.
Она сидела у столика внизу. Напротив место было занято большой спящей женщиной и она предложила мне рядом сесть, поужинать. Достала из сумок что-то съестное в пакеты и полотенца завернутое, но я отказался. Был не голоден. Только за чаем сходил, и ей и себе принес. Она ко мне по-матерински относилась, по доброму. У нас прежде никогда и случая не было поговорить. Когда я бывал у них, всегда она была занята делами, да и я никогда не засиживался. В тот вечер, пожалуй, первый раз было, что мы вместе оказались и не заняты были.
- Ты скажи мне, Виталик, как думаешь, отпустят его к нам?
- Должны бы. Если он ничего не натворил, то отпустят обязательно.
- Вот собрались, я ничего не написала ему, приедем, а он и не выйдет. Что тогда? Ты как думаешь?
- Должны отпустить! Вы не переживайте об этом. Это же день рождения и выходные вместе. Если что - к командиру части пойдем, попросим. На день его обязательно отпустят.
- Ой, не знаю. Может и неправильно. А ты скажи, ты что, и из института ушел?
- Ушел.
- Ох, мальчики-мальчики. Федя рассказывал про тебя. А как же мама твоя, что сказала?
- А что же она скажет? То же, что и Вы Федору говорили. Это же у всех одинаково.
- А как работаешь ты? Тоже в больнице?
- Да.
- Обратно в институт пойдешь? Примут тебя опять?
- Мне в армию скоро, а там видно будет. Может и в институт вернусь.
- Странные вы ребята, ой странные. Что ты, что Федя мой. Ты так за ним и ходишь, и в армию уже который раз едешь, и из института ушел. Что ж ты так?
- Так ведь друзья мы с ним. Поэтому наверное...
Она покачала головой, замолчала, повернулась к окну и провела ладонью по глазам.
- Есть у него друзья. Олег вон тоже... Он-то не ездит к нему.
- Может времени у Олега нет. А я свободен сейчас.
- Да не про то я! Что ж ты не понимаешь?
- Не понимаю... – честно сказать мне было неудобно понять, о чем она мне сказать хочет. Может поняла она, что я не просто так, за Федором как нитка за иголкой, бегаю. Почувствовала? Недаром говорят, что материнское сердце не обманешь. Да я и не обманываю. Я же просто люблю. Но говорить об этом я не хотел.
- Ну, не понимаешь, так и не надо, - она уже не скрываясь отерла глаза от слез, - Лишь бы у вас все хорошо было. Спать-то ложись уже. Утром рано приедем.
Я влез на верхнюю полку, повозился устраиваясь и затих в своих мыслях о завтрашнем дне. Мама Федора легла внизу. Но тоже не сразу уснула. Слышно было еще долго, как она шмыгала носом и сморкалась в платок, плакала.
Я не знал ее материнское горе, о чем она плачет, что так ее тревожило. Не из-за меня - иначе бы сказала. Да я и не мог ее никак расстроить, тут другое было. Что-то пыталась мне сказать, но не стала. Чего я понять должен был? Не из-за того же она слезы лила, что я гомик. Это мое, мне с этим и жить. Мысли крутились в голове, гнали сон прочь. Я себе и представить не мог, как завтра буду с Федором говорить.
Как начать об этом? А если он и говорить не захочет? Тогда просто уеду, завтра же, чего ждать. Но он не станет, не сможет меня просто так оттолкнуть... Он же знает, я друг ему, уже сколько времени вместе, он меня своим другом зовет... Знает, что я его не выдам, ни одна душа живая не узнает о том, что он будет со мной секс иметь, для других он останется прежним, как и раньше - бабник и потаскун... А со мной будет у него настоящее, может и полюбит он меня тогда, когда попробует... Должен будет полюбить! Ведь не напрасно же я все это затеял, это же любовь и есть. Ведь люблю я его! А если и не полюбит, ну и что. Он же в армии не может с бабами встречаться и наверняка уже трахаться хочет сильно. А и вручную, где там в казарме он сможет? Тоже - не разбежишься. Наверняка в нем уже столько накопилось, что только прикоснись – клапан слетит. Так какая разница с кем? Разрядится со мной. Я уж постараюсь, чтобы ему было, как никогда... Может спасибо скажет. А может и в морду даст. А если не захочет он после того знать меня, так что ж, значит не судьба. По крайней мере, будет что вспомнить.
Уснул только под утро, часа полтора успел от ночи ухватить. Когда приехали на место, я первым делом побежал в часть узнавать, как можно будет Федора вызвать. Мама его подошла чуть позже, после того как вопрос с комнатой в деревне порешала. Федора долго не было, потом прибежал запыхавшийся, в парадной форме, а лицо чумазое, умыться не успел. Несколько раз он в штаб бегал, начальство свое искал, наконец нашел, полковник какой-то вышел к нам на КПП, посмотрел на маму Федора и разрешил забрать его на два дня.
Для меня все складывалось прямо как в сказке - целую ночь буду с ним! И мечтать не мог о таком. Отправились в деревню, опять в тот же дом, где на присягу останавливались. Хозяйка уже начала на стол накрывать. Федор был рад, что мы приехали, светился улыбкой. Но за столом больше молчал, слушал новости городские...
В разгар обеда мама его вдруг вспомнила про мою гвоздику в термосе. Я сам за суетой сразу не вспомнил, а потом решил оставить цветок до вечера, для большего эффекта. Но уж как мама его заговорила, пришлось доставать. Гвоздика в термосе раскрылась, душистая такая оказалась, крупная. Сюрприз удался – все ахали, охали. В деревне, среди тайги, среди зимы и живой цветок. Действительно - редкость небывалая. Федор улыбался и на меня поглядывал, а я так уже просто глазами его ел. Все мои ночные сомнения исчезли – сегодня ночью все решится, все будет хорошо!
Хозяйка постелила нам одну кровать на двоих. Правда за занавеской спали мама с сестрой Федора, но нам это уже не могло помешать быть вместе. Я волновался и даже не пытался себя успокоить – какой там, я ложился в постель, с чувством, что ложусь в его объятья, был уже готов обвить его собой как змей, испробовать на вкус от каждой части тела, проглотить всего целиком и выпустить снова, прорасти в него, извиваться под ним и в нём, стать навечно его любовником, я был уже готов...
Мы лежали в постели под одним одеялом, я уже заранее стянул с себя майку, остался только в трусах, а он был в нелепых солдатских кальсонах и полотняной длинной рубахе. У меня сердце выпрыгивало из груди, я говорить не мог, дыхание перехватывало. Он молчал, лежа на спине. Я видел, что он не спал, глаза его были открыты. Я ждал, когда же услышу из-за занавески мерное посапывание. Еще немного и его мама уснет и тогда можно будет... Я боялся прикоснуться к нему, чтобы не сорваться раньше времени, мой локоть лежал у него под рукой, и я боялся пошевелиться, когда же...
- Ты не спишь еще? – Федор спросил меня даже не повернув головы, не шевельнувшись, - Пойдем, покурим?
Вставать и одеваться не хотелось: «Нет, не хочется, да и холодно. Я разделся уже, лучше я тебя здесь подожду, а ты иди, покури...»
Федор поднялся, как белое приведение в своих кальсонах и рубахе, накинул шинель и протопал в носках в сени, притворил тихонько дверь и зачиркал там спичками. Мне было жарко в постели. Насчет «холодно» это я соврал. Я отбросил одеяло и сел на край. «Ждать больше не могу. Сейчас. Быстрее уже...» - мысль тоже обжигала. Я опустил ступни на холодные половицы, подумал встать, но колени подогнулись, и я опять осел на кровать. «Страшно. Как сказать? Господи, да что же я!» Федор вернулся и лег. Опять на спину и глаза открыты в потолок. Я видел. Подтянулся к нему. Левую руку сунул к нему под локоть, а правой ладонью обнял плечо. И чтобы он не возразил вдруг чего-нибудь, зашептал сразу быстро:
- Федор, я сказать должен... Слышишь? Федя, я ... ты е..и меня...
«Господи, что это я несу?! Что это я уже сказал?! Ведь не так, не это, что же я, Господи...», а вслух уже не мог остановиться:
-Ты ведь хочешь, Федя, я понимаю - Армия, ты наверное давно уже никого, так ты меня, ведь я пидор ...
-Э-а-а-аахХХ!- он то ли выдохнул, то ли вдохнул громко. И как-будто заскрежетал, весь сжавшись, зажмурившись, сведя кулаки перед грудью. Как от боли сжался. Качнулся и рывком сел в кровати, зашаркал быстро босыми ногами по полу, искал обуть что-то, не нашел, соскочил босиком и быстро, как был в своих белых одеждах, выскочил в сени.
Я лежал замерев - меня напугал его этот надрывный хрип, то, как его подбросило из кровати. Сердце колотилось как бешенное и мозги не работали. «Зачем, почему так сказал, ведь хотел про то, что люблю, что нужен он мне, что хочу его любить и дальше. А он может меня любить, если сможет. А понес про трах, да еще как.... Нет, чтоб по-людски сказать, дурак, все напортил...»
Федор вернулся быстро, наверное и не курил, и молча лег рядом, спиной ко мне. Одеяло осталось откинутым. Я лежал, боясь пошевельнуться, полностью открытым. Он тоже лежал молча и не шевелясь. Было так тихо, что каждый шорох за стеной слышен был. Он молчал. Я тоже. Я боялся прикоснуться к нему. Между нами, если и было, то не больше пяти сантиметров пространства, но... он молчал.
Спать я не мог. Я уже и думать не мог. Понятно было, что не будет у нас никогда и ничего. Все мои мечты – только мечты. Я - дурак безмозглый, в одной постели был и сказать не смог. Нет чтобы про любовь начать, так мозгов не хватило... Пидор и есть! Гадко. Гадко и пусто. Надежда умерла. Ничего взамен не осталось. Только пустота...
Федор молчал. Я не слышал в темноте его дыхания, значит тоже не спал. Под утро, когда я озяб и потянул осторожно одеяло вверх, Федор резко поднял голову, оглянулся и опять лег. Конечно, не спал. Я подтянул одеяло на себя и набросил угол ему на плечи. Ни звука в ответ. Ни одного движения.
Утром он не смотрел на меня. Когда после обеда прощались и он уже и с мамой, и с сестренкой обнялся и расцеловался, а я боялся подойти, он сам протянул руку, вздохнул:
- Вот так, Виталий... Ну бывай! – и ушёл.
Я помню его ладонь такой, как она была тогда, помню ощущение пожатия, оставшееся на моих пальцах, мне кажется, я помню даже запах. Светлая открытая мужская ладонь из широкого рукава серой солдатской шинели, а кругом снег... А глаз его тогда я не запомнил - в глаза он мне так и не посмотрел.
Едва добрались до поезда, я забрался на вагонную полку и провалился в пустоту до следующего утра, пока мама Федора меня не растолкала: «Вставай подъезжаем...». Сказались две бессонные ночи, да и пустого пространства в душе теперь было достаточно, не о чем было теперь думать, не о чем и мечтать. Пустота.
8
Возвращение мое к обычной жизни было долгим. В тот год наш товарищ Андрей-колымчанин женился, и я часто к ним отогреться ездил. Жена его решительная и умная женщина, всем мне импонировала, я чуть было не влюбился в нее. Жаль, что все-таки женщина. Ничего я о себе ни ей, ни Андрею не рассказывал, и тем был доволен, что он меня привечал, не шарахался. Да еще с Котом, другом Федора я продолжал иногда встречаться. Надо было дальше жить. Я, вроде, никого не убил, никого не предал, ни в чем не испачкался, вроде и не виноват ни в чем и ни перед кем был, а чувствовал себя словно проклятым. Не хотелось ни знакомств новых, ни встреч случайных, ничего.
Поступать в мед.институт нужно было теперь уже заново, но я и не надеялся к экзаменам подготовиться. Желания особенного не было. Так, чтобы маму успокоить, разносил заявления по приемным комиссиям в разные институты. Но сам уже давно решил, что пойду в армию. И на медкомиссии «откашивать» не стал, хотя можно было.
Даже не надежда это была, только маленький шанс - в Армии с Федором встретиться, вернуться к той точке, где разорвалось. Авось и склеится. Ведь не сказал же он мне «НЕТ», ничего не сказал. Я тот его страшный хрип так понял, а он мог и по-другому думать. Чужая душа - потемки, не угадаешь, если сам не скажет.
За день до моего призыва в армию я случайно встретился с Олегом, и он позвал меня поговорить... Мне это было странно, ведь мы не были друзьями. У него был свой круг знакомых, мы с ним сталкивались раньше лишь изредка у Федора дома. Они дружили со школы, как я знал - их связывала странная история с отравлением. Но после того, как Федора забрали в Армию (а это уж полтора года минуло) мы не встречались. То, что мне в Армию идти он знал, не сказал от кого. Хотя общих знакомых хватало, а я ни от кого не скрывал. Он позвал меня в закрытый двор своего большого «сталинского» дома с подстриженными кустами и нарядной детской площадкой. Мы сели на лавочку недалеко от качелей. Был уже темный вечер, конец октября, снег лежал в песочнице.
- Ты не боишься идти в Армию?
- Боюсь, конечно... а почему ты об этом...?
- Я слышал, что ты сам решил идти служить. Правда?
- Да.
- Это твое дело, но, наверное, ты думал, что может быть очень трудно...
- Разумеется, думал и знаю. Всё может быть.
- И Афган?
- Это вряд ли. Я в радиошколе учился, как и Федор. Есть вероятность попасть в ту же часть, почти сто процентов.
- Да. Я слышал об этом...
Он замолчал, не закончив фразу. Полез в карман за сигаретами. Предложил мне и подкурил сам. Помялся немного и вдруг очень отчетливо, повернувшись ко мне (глаз его под темными стеклами очков я не видел), он произнес:
- Ты знаешь, я думал, что ты дурак!
Уж не знаю кому как, а мне такое пришлось впервые выслушать. Да что впервые, тот раз был единственный в моей жизни! Я смешался. То, что он «думал», и наверное теперь уж так не думает, утешало мало. Сам-то я про себя точно знал, что дурак. Правда вслух про это не говорил...
- Ты извини, что я так сказал. Хорошо? Я хотел про Федора спросить. Вы переписываетесь? Как он там? Ты ездил к нему?
- Да был я у него. У него всё нормально. Мы даже один раз с Котом вместе ездили. А письма он не пишет. Не любит.
- Да, я знаю. Ну, ты осторожнее будь! Давай! Пока.
И он встал со скамейки, быстро шагнул в сторону, потом развернулся ко мне, протянул руку... я пожал: «Пока!», и даже не успел встать на ноги, как он уже ушёл. Я продолжал сидеть с зажженной сигаретой во рту, натягивая снова на закоченевшие пальцы холодные перчатки:
«Н-да. Весело. Дураком назвали. Неловко как-то. Уже и со стороны видно. Но, вроде как и извинился, и как-будто вполне искренне. Чего-то я в этой жизни не понимаю. Чушь какая-то!»
Часть третья (как всегда выдуманная)
Vergangenheit ist immer da (прошлое всегда здесь и сейчас)
Опять снился черный сон. Абсолютно черный. Ничего, только чернота. И уже проснулся, но все равно чернота кругом. Надо открыть глаза. Или уже открыл? Поморгал, попробовал зажмуриться – не сплю же... А кругом темень. Это опять страшно. Это сон такой, что уже проснулся, а кругом темно. Так уже было... Надо сесть в кровати и все пройдет... Хотел подняться, но не смог оторвать голову от подушки. Да, конечно, это сон такой. И руки тоже, как привязанные лежат. Надо проснуться. Невозможно пошевелиться, как парализованный... Давай! Проснись! Не получается, как парализованный, даже голову не повернуть, и сразу давит на все тело, на грудь, давит сильно, так что и дышать трудно. Дышать трудно! Кругом черная темень и трудно дышать. Мама! Мама! Я не могу проснуться! Мама! Я не могу проснуться! Я не могу дышать! Мама! Где ты? Я зову тебя, мама!
- Ты что, Федя, опять? Проснись! Это просто свет отключили. Давай, сядь. Не падай! Сиди! Не мычи, я здесь! Я рядом... – мама потянула его за плечи и усадила в постели, стала гладить по голове, поцеловала в висок и прижала к груди – Сиди, сиди спокойно, сейчас всё пройдет, - она стала слегка раскачиваться, баюкая своего взрослого сына, успокаивая его.
- Спи, маленький мой, спи, я рядом, не стони, я здесь...
Он успокоился, затих на груди у мамы. Она уложила его на подушку,
- Спи, Феденька, спи, сыночка...
Потом пошла в темноте на кухню. Там поискала в ящике стола свечу, нашла, поставила в стеклянную баночку и зажгла, легко чиркнув спичкой по коробку. «Вот беда-то со светом. Опять отключили ночью. Холодильник потечет. Надо тряпку подложить, пока не забыла». Когда она со свечей вошла в комнату, Федор лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок.
- Мне опять снилось, мама. Я разбудил тебя?
- Ну а кто еще? Ты конечно.
- Я не хотел.
- Да знаю я. Спи, Феденька, спи. Я вот свечу зажгла, а то опять без света остались. Весь квартал отключили. Ты попробуй уснуть. Закрывай глаза, не смотри так. Может и уснешь опять.
Нет, не уснет. Он знал, что теперь не уснет. Страха задохнуться в темноте уже не было, но и сон не шёл. Так всегда бывало и раньше. После кошмара он никогда не засыпал: просто лежал и смотрел в потолок до утра. Мысли не отпускали. Всё опять рухнуло в его жизни. Уже который раз...
Когда после Армии вернулся, его сразу, без всяких проблем приняли в милицию, по рекомендации. Одно название, что работа - сидеть в Горисполкоме у входа, да на копировальном автомате разгонять для начальства документы. Красота! И зарплата, и уважение, и буфет горисполкомовский, где не каждому, но для него всегда: и колбасы, и сыры всякие, и мясо тоже оставляли. На паёк не поставили, но для него всегда было. Буфетчица с милицией дружила, а он-то всегда при форме был.
Тогда и женился – жену взял из студенток. Молоденькую, страстную, ей всё равно было, за кого, лишь бы замуж, а тут еще и с квартирой, с пропиской. Чем не пара? Мать порадовал. Квартиру отцовскую разменяли, всем по квартире получилось. И сестренке тоже, и маме. Хорошо, что тогда на три квартиры разбили. Если б не мамина квартира, сейчас жил бы на улице. Дочь родилась, и когда разводились, судом квартиру жене отдали. Давно уже не видел дочь, и не приедешь ведь. Лучше уж подальше от них.
Жена злая была на него. Мстила ему. Всё время больнее и больнее делала. А за что? Что ее из деревни вытянул, в городе на работу пристроил, квартиру отдал? Где была бы сейчас? Институт-то ей нужен был только чтобы в город уехать и замуж выйти. После того, как забеременела, сразу и бросила. Ну а как родила – словно с цепи сорвалась. Скандалы, крики, домой идти не хотелось. Потом ее брат приехал поступать в институт, она немного успокоилась, да не долго...
Парень красивый был, молодой, восемнадцать лет, высокий, спортивный... столько в нем энергии было, как у них так получилось, да и было-то всего ничего - пару раз, никто и не узнал бы. Может он сам и рассказал сестре, а может и сама догадалась. А теперь мстит. Унижала его, била, ногами топтала... а ведь трезвый был. Орала так, что в соседнем доме наверное слышали, что он ... такой, лето ведь, все окна открыты, жарко было...
Да, жарко было тогда, сидели за пивом, раздевшись до трусов. Он, брат ее, об армии спрашивал, ему тоже идти скоро было, даже если поступит, про дедовство говорили, вспомнил Федор своего офицера... а парень про секс заговорил, про пидоров, что ему ничего, и с ними нормально будет, без разницы кого... И так захотелось.
Сколько прошло уже, а вот вспомнилось как с разведчиком своим было... Пошутил просто: спорим, что не встанет на мужика, чего мол ячишься? А вот и встанет, на спор! Спорить много ли ума надо, встал, приспустил трусы – смотри на задницу, и где он у тебя встал? А встал. Еще и как встал. Здоровенный, как и он сам. Пошутили называется. Тогда отодрал его шурин прямо на кухонном столе, перед открытым окном.
Могли из из хрущевки напротив подсмотреть, все же насквозь видно, немного только дерево прикрывает. Потом еще раз было, когда жена гулять с дочкой пошла. Она вернулась, а они красные, потные, и запах наверное был, но сказали, что боролись. Позже шурин место в общежитии получил и только изредко приезжать стал, и не было больше с ним ничего. А она узнала и мстила. Про брата не говорила, только про него. Соседям рассказывала, что вот обманул, ребенка сделал, а сам...
На работе как раз новое место получил. Нашел его зам.начальника Центрального РОВД, мол с такой рекомендацией да на таком отстое сидеть – грех! Предложил в кадры, на капитанскую должность. Сказал, что не просто так, что такие нужны ему в кадровом отделе, молодые – перспективные, с опытом работы. Федор возразить хотел про опыт, но майор оборвал - его опыт достаточен. Это не очень понравилось. Знал Федор, от кого рекомендация в личном деле у него. А если майор знает его, разведчика-то? А если всё знает? И какой тогда опыт ему нужен от Федора?
А это тайна была. Про это никто не знал. Вообще никто. Ни Олегу не говорил, ни Виталий, когда в часть его пригнали, ничего не узнал. Федор умел молчать. Это помогает в жизни, поменьше о себе рассказывать. Вот мама его так и не знает, почему они тогда с Олегом отравились. Сначала он боялся, что вся школа говорить о нём будет, что Кот их сдал, но обошлось, Кот только родителям рассказал, а те даже маме говорить побоялись, ей тогда столько перенести пришлось – муж умер, сын отравился, в реанимации лежал, еле выжил. Отбоярились потом Федор с Олегом, что мол показалось все Коту, навыдумывал со страху, и Кот согласился: конечно навыдумывал, что ж друзей-то терять.
Федор долго потом лечился еще, год учебы пропустил, но в школу не вернулся. Перевелся в другую, где его никто не знал. И никогда больше об этом никому ни слова не говорил. Даже с Олегом – никогда. Баловался иногда, чтобы проверить как знакомые реагировать будут – намекал слегка, но никто и поверить не мог, что такое могло бы в действительности быть. Он умел молчать. И умел показывать, только то, что надо.
Все в школе и потом в институте знали, что у него всегда много женщин было. Он настоящий мужик, и все женщины его любят, штабелями у ног, на коленях о любви просят. Да, он такой! Да, он их по пять за раз, одну за другой! Он-то знает, как это!
Когда у него первый раз секс с женщиной был, так совпало, что приятель его институтский, Виталий, к нему в Армию приехал, на присягу, вместе с мамой и сестрой Федора. А в деревне, где комнату снимали, у хозяйки дочка приехала, не старая еще, лет двадцать пять - как она его любила, как она его ласкала, всего исцеловала, везде... Это по-настоящему было и в первый раз! Навсегда запомнил: «Ах витязь, то была Татьяна!». Потом только с женой. Но уже не так. Так как в первый раз, уже никогда не будет.
Потом Виталий, опять приезжал, зимой, и опять совпало. Он в любви признаться приезжал, мальчик наивный, себя предлагал. Да разве понял бы он, что Федор просто не смог бы, не такой он. Никогда никого не смог бы! Только, если бы его кто-то. Как разведчик, в особой части.
Настоящий разведчик, не Штирлиц конечно, но настоящий. Он рассказывал про себя, про Австралию, как его спалили там американские контрразведчики, как пришлось убегать через Индию, как пил потом в Москве, попал вот в тайгу на отдаленную точку, специалист ведь, дешифровщик. И позвал не просто так, хотя на собеседование всех приглашал, но его, Федора, специально. Потому что Федор хорошо подготовленный парень оказался. И такие нужны на службе. Он, разведчик Литвинов, рекомендацию конечно даст, и поступить с ней в Высшую школу КГБ – дело плёвое, считай решенное А если не в Москву, то с такой рекомендацией - куда угодно примут. Ну и здесь в части, тоже уже никаких проблем не будет. В батальон идти, «молодость» тянуть не хочешь? Так я тебя в учебке оставлю. Будешь сержантом. Хочешь? Будешь! Поможешь только в одном деле. Потерпишь немного. Прямо сейчас, встань вот так. Знаешь, что делать нужно? Знаешь! И не дергайся. Посмотрим, какой ты в деле боец.
А так стоять Федору уже приходилось. Но разведчик грубым не был, с ним даже иногда приятно бывало. Не с первого раза, конечно. Тогда, в кабинете, Федор обмер сперва, когда особист его сзади обхватил и штаны спускать стал, а потом чуть не заорал от боли и страха. Едва сдержался, мычал только, трясло его всего, но терпел. Подумал, что кто-то рассказал особисту про него, но кто мог? Не могли же они Олега или Кота допрашивать. Хотя черт их знает, КГБ все может. Как Литвинов говорил, так он за ним давно наблюдает, может и запрос домой послал и теперь уже точно всё знает. Все до последнего! Даже про то, о чем никто знать не должен. Поэтому и взял его так просто - как котенка. И приказал помалкивать. Через день ротный сам предложил Федору в учебке сержантом остаться. Не обманул особист. Вот так и совпало, что Виталий со своим цветком приехал и опять у Федора приключение было.
С особистом это долго продолжалось. До самого дембеля. Вызывал к себе иногда. Домой не водил, только в кабинете. Это и для других не подозрительно было. Мало ли, особист сержанта учебки вызвал. Иногда даже угощал разведчик Федора чем-нибудь вкусным, но чаще просто трахал у себя на столе и отпускал.
Когда Виталия, мальчика наивного влюбленного, привезли служить в часть, Федору всего пол-года службы оставалось. Федор его в свой взвод взял. Про то, как Виталий ему в любви признавался они не говорили никогда. Они вообще мало говорили. Федор ему объяснил, что если сейчас раззвонить, как они дружили на гражданке, то потом, в батальоне, ему только хуже будет. От своих же, от своего призыва огребётся. Поэтому лучше никак своих отношений не показывать. Ну а про остальное - ни слова никому, никогда и никому!
Сержанты в учебке Виталия сильно не гоняли, немного помягче к нему относились, но особо не выделяя его из общего строя. Заметили, что Федор щегла привечал, и побаивались, знали в каком отделе часто бывает. А Федор понимал, что ничем больше приятелю помочь не сможет. Как уедет он домой, так пацан совсем один, без поддержки останется.
Перед самым дембелем нашел Федор дружка, уже в боевой батальон переведенного, поговорили коротко. Видно было, что лупили молодого, как и всех, но он не жаловался. Все равно ничем не поможешь. А как из части толпой уже выходили в автобус садиться, Виталий на КПП стоял в карауле и под козырёк взял, «честь отдал». Дембелям-то понравилось, а Федора перекривило: знал, что не все в части довольны тем, как дембеля «по-чистому» уходят. Если б их всех вместе автобусом до Уссурийска не отправляли, то по одному-то многим пришлось с битой рожей домой ехать. И молодому эти игрушечки с «честь отдать» могут еще припомнить.
Они встретились через полтора года, когда у Федора уже дочка родилась. Федор ему сразу сказал, что женился. Дело понятное, нужное. Виталий погрустнел. Всё в глаза заглядывал, словно о давнем спрашивал. А что скажешь. Хороший парень, все еще у него будет. Но о себе Федор не говорил - ни с кем и никогда. Как ему, глупому, это объяснить? Ни с кем и никогда! Никогда! Он, Федор, - нормальный. Что раньше было - никто не должен знать! Никогда! То, что в Армии было с разведчиком - это случайность. Просто так получилось, что Федор испугался особиста. И про это тоже никто не должен знать. Что было, уже прошло.
С Олегом сложнее было, он знал больше. Когда после Армии с ним встретились, Олег тоже все в глаза заглядывал. Но один раз сказано – нет, чего повторять? Они еще тогда, на бульваре, на скамейке, навсегда попрощались, и тогда еще сказал ему Федор, что он нормальный, что не гомик и никогда им не станет, и правильно они решили, что так жить нельзя. И ничего с тех пор не изменилось.
Правда, когда Олег сообщил, то женится будет и на своем дне рождения с девушкой познакомил, Федор психанул. Почему так, он-то нормальный, а у него все наперекосяк? Олег и институт уже заканчивал и женится теперь. А Федор? он что жениться не может? Еще и как может. Да у него баб было не считано, и каких! И в Армии! Таких поискать! А кто ему еще в любви признавался? Да весь курс об этом знает. Когда он об этом вслух сказал в комнате притихли, там ребята с курса Олега были и Федора тоже немного знали. Но Федор по именам никого называть и не собирался. Так, вообще, сказал. Олег смотрел ему в глаза и молчал, ждал. А Федор и не хотел его выдавать. Он про девушек говорил, что тут смотреть. Может быть не так сказал, как хотел, немного пьяный, но уж точно никаких намеков не хотел...
Он еще дальше продолжить хотел, но тут мама Олега зашла, спросить всего ли на столе хватает, из-за спины Федора на стол глянула, его по плечу похлопала, мол не кипятись, и ушла. А Федор скривился весь от боли, так его через поясницу перетянуло, что ни охнуть. Мама Олегова его тогда вилкой в спину прямо через пиджак ткнула. Он это только дома понял, когда четыре кровавые точки на рубашке увидел, а за столом подумал, что почки опять скрутило... Олег помог ему до туалета дойти, сказал что все равно он его любит и любить будет. А женится, потому что как иначе-то, не всю же жизнь одному, раз уж с Федором не получилось. Попросил не обижаться.
Федор и не обижался. Он знал, что ему повезло с друзьями. И Олег и Кот пока в городе были не оставляли его, всегда были вместе, всегда помогали. Конечно, жалко, что он институт бросил. Но трудно очень было учиться. В голову ничего не идет, какая там химия-биология. Он помнил еще, как в институте, на переменах видел любопытные взгляды ребят из его бывшей школы. Шептались про него... Он-то с ними и не здоровался, как-будто первый раз видит. А они иногда подходили, спрашивали, с того ли он выпуска...
А когда фарцевал, один его прямо в лицо пидором назвал, что-то из-за денег сцепились и тот назвал... Федор с ним потом дел не начинал, но парень наверное что-то знал, мог и другим рассказывать. Олег, правда, всегда говорил, что все это фигня, и Федору всё только кажется, а на самом деле никто ничего не знает. Но Олегу-то хорошо, Федор про него никогда и никому не говорил, а Кот про Федора рассказал.
В милиции, когда он перевелся, все отлично казалось. Он на капитанской должности, даром что старшина, в отделе кадров. Иногда к нему Виталий заходил в шахматы поиграть, когда в выходные дежурить приходилось по управлению. Игрок из Виталия был слабенький, да он и сам признавался, что плохо играет, волнуется очень и ходов потому не видит, но Федору было с ним интересно. Общались они между делом, иногда и о Армии Федор спрашивал, как Виталий без него службу тянул.
Федор знал, что вскоре после его дембеля особист тоже уехал. Но все равно интересно было, может и Виталий чего-нибудь об этом слышал. Не просто же так он всё время в разговоре Федора глазами тормозил – чувствовал наверное что-то, ведь не сказал же ему Федор ничего, когда они вместе в одной постели лежали, и мальчик наивный ему себя трахнуть предлагал. Ничего он не ответил тогда, не выдал себя. А Виталий все равно смотрит в глаза и молчит. Как ждет. А чего ждать? Неужели не понятно? Нет! Никогда и никто! И каждый раз, когда встречались, смотрел. Может что-то ему известно стало. Узнать бы, что именно.
Когда жена узнала про него и дома скандалы начались, Олега уже не было в городе. Уехал он в деревню врачом работать. Федору тогда очень плохо было. На работе вечером часто собирались «по маленькой», но и потом домой идти не хотелось. Он тогда часто сидел на лавочке, у какого-нибудь чужого дома, чтоб соседи не видели, ждал как стемнеет, и домой уже поздно приходил. Когда дочка засыпала, жена не так громко кричала. А по выходным стал к матери уходить. То на огороде помочь, то по дому что сделать.
Но жена мстила. Познакомилась с участковым, наговорила ему. Тот встретил Федора, предупредил, чтоб жену не трогал. А он ее и не трогал никогда, она сама кого хочешь... Значит наврала.
На работе стал замечать, что шеф смотрит странно, может быть участковый настучал, и теперь по всему отделу разойдется.
Как-то он напился с мужиками на работе в пятницу, засиделись до поздна. Домой пьяный по форме не ходил, переоделся, и пока до дома добрался, время уже к одинадцати подходило. Он в двери, а там участковый старлей, и его по зубам, без разговоров. Сразу, как только дверь открыл – и удар в лицо. Стал орать, хотел ответить, да куда.
Старлей достал свой Макаров и рукояткой в зубы, и не один раз. А потом еще и ОМОН вызвал, типа нападение на сотрудника. И омоновцы добавили, отпинали. Отвезли его в КПЗ, старлей рапорт написал, заявления от жены тоже приложил: о злостном хулиганстве и сексуальном домогательстве к дочери...
В КПЗ первую ночь боялся, что убьют. В камере впятером были, не отбился бы. А если бы начали насиловать, то и сам убил бы кого. Но обошлось, сокамерникам наплевать было, у всех свои проблемы. Утром дежурного попросил перевести, как мента, в отдельную камеру. Тот посочувствовал, да и по уставу положено было – закрыл в одиночку.
Следователь прокуратуры приехал только в понедельник вечером. Возбудил дело, назначил психиатрическую экспертизу, вызвал спецконвой и отправил в СИЗО. Предупредил, что там порядки другие, что будет он среди бывших сотрудников сидеть, но до первого замечания. А там не взыщи – карцер или прессуха, как повезет, статья-то знатная... Тогда в ментовской камере СИЗО он первый раз повесился.
Через два месяца дело закрыли за отсутствием состава преступления. Его выпустили. Но с женой он уже не встречался. Она успела подать на развод и забрала квартиру. Попросила участкового чаще заглядывать, под контролем держать... Месяца не прошло, как тот к ней переехал. А Федор у мамы остался.
Из милиции уволили сразу после того, как его ОМОН взял. Когда дело закрыли и он попытался назад попроситься, шеф ему коротко объяснил, что заключение психиатров о латентном гомосексуализме, паронойяльной суицидальной направленности и склонности к депрессивным состояниям в личном деле останется всегда. Рекомендация от спец.отдела ГРУ МО это очень хорошо, и вероятно в Москве эта рекомендация будет иметь большее значение, чем бумажка от местных психиатров, но здесь, на месте, он это заключение игнорировать не может. И потом, что это за латентный гомосексуализм, это когда ты кого или наоборот, и как это со статьей 121 УК РСФСР соотносится? В том смысле, что сразу сажать, а потом разбираться, или сначала всеж-таки разобраться, а потом посадить...?
Дома он три дня молчал, никуда не выходил, а когда мать пошла в магазин, затянул бельевую веревку поверх еще видимого следа на шее.
Мать спасла. После того стали опять сниться черные кошмары, как в юности, после реанимации. Дрожали руки, да и всего мотало, как пьяного. Работать не мог. Жили тогда на материну пенсию. Иногда приезжал в город Олег, помочь чем нибудь, привозил лекарства всякие, рефлексы проверял. Но он надолго не мог, только в воскресенье и обратно к себе в деревню - там работа, жена.
С Виталием не встречались долго, да тот и не знал ничего, даже куда он со своей квартиры съехал. Виделись с ним как-то раз еще до ареста. Федор тогда на лавочке, недалеко от остановки трамвайной сидел, ждал когда стемнеет, чтоб домой пойти. А Виталий к нему домой шел. Вот и встретились. Рассказывал Федору тогда, что у него в институте проблемы, пожар какой-то был. Должны выгнать. Ну и Федор рассказал, что у него тоже проблемы, и тоже могут с работы погнать... Понимал что жена не остановится, а сам что-то сделать уже не мог. Посмеялись тогда, как у них черная полоса совпала, нет, чтоб белая.
Федор хотел уж было всё о себе рассказать, но не смог. А Виталий ему в глаза опять заглядывал, словно догадывался; и опять про свое, как ему плохо иногда, а пожаловаться некому, никто ведь не поймет, что там внутри... Конечно же опять таким манером спрашивал.
Федор понимал все прекрасно, когда Виталий вдруг замолкал в разговоре и в глаза смотрел... Понимал, и о чем тот молчит, и что тоже поди боится про себя вслух сказать. Эх, и не объяснишь ему всего.
Во-первых: он не такой. А во-вторых: Виталий-то себя предлагал – на бери! А он разве мог взять? И что теперь? Не рассказывать же как шурин, пацан совсем молодой, его, мужика, оттрахал... Стыдобище! Лучше пускай по прежнему думает.
Когда Федор оклемался и смог уже сторожем на работу устроиться они опять встретились, уже случайно, на улице. Время быстро пролетело: друг его уже и институт закончил, работал теперь доктором, звал к себе в гости, жил вроде один. Про какого-то приятеля рассказывал, который с женой вместе у него бывал, что-то про Андрея с Колымы, еще о ком-то... Федор торопился на работу, в ночь дежурить, взял только номер телефонный и побежал дальше. Обернулся – Виталий стоял, смотрел, махал рукой...
Дома, когда рассказал матери, что вот встретил, еще один доктор знакомый будет, она вдруг расплакалась... Боялся, что она его корить начнет, мол все друзья институты позаканчивали, а мать о другом - вспомнила как они к Федору вместе в Армию ездили, как цветок ему зимой привезли, что вот и сейчас дружить зовет, не отворачивается... Так чего ж ты не дружишь с ним? Опять один останешься? Или не вижу, что ты один, как перст на белом свете? Я ж не вечная, ты б уж себе кого нашёл бы! Да хоть друзей, что ли путевых! Олег к тебе раз в месяц если заглянет и то хорошо, у него своя жизнь, семья. А ты-то один!
Попробовал возразить:
- Ты ж не знаешь всего, не понимаешь...
- Чего я непонимаю? Что этот Виталий твой не такой, как все? Что ж ты меня за дуру-то держишь, или я жизнь не жила? Да знаю все. Я не говорила тебе, как меня в комиссию вызывали, когда тебя обследовали, выспрашивали о тебе все до последней мелочи... И про отравление и про Олега, и про друзей твоих, котрые раз придут и поминай как звали... Где они все? Сколько народу у тебя из института перебывало, как на вокзале жили? Вспомни, это ж надо было, три мешка картошки съели за месяц как меня дома не было, и где они все? А нет никого. Сидишь бобылем целыми днями перед телевизором, а ведь молодой еще. Что ж ты меня-то мучишь?
Ответить нечего было. Про то, что другой или не другой, это он с мамой не обсуждал. Неприятная тема. Не с мамой же об этом. А друзей действительно не осталось. Кот свой институт закончил и тоже уехал в Приморье работать, по распределению. Олег из деревни выбирался не часто. А в городе, если на улице кого из знакомых ментов видел, так прятался. Одноклассники бывшие тоже не в счёт: из старой школы многие знали о нём; а в новой школе знакомств не заводил, не до того было. В институте почти и не учился, оттуда Виталий остался.
Теперь только новые приятели на работе, с которыми даже и поговорить не о чем. Да и некогда: пересменки-то короткие, парой слов обменяться не успеешь... Конечно, мама права, что он один остался. Почти один. Олег - его друг, как бы то ни было. Редко они видятся, но видятся же. А Виталий... Он не все знает, и наверное так лучше, чтобы не знал. Собственно и Олег не все знает. Не расскажешь же ему про Армию или про шурина... Если рассказать про всё, так он может и разговаривать не захочет.
Вот как так получилось, что оба его друга ему в любви признавались, оба значит гомики, а он - нормальный мужик, но его-то и трахали всегда, как так вышло глупо? Как им теперь объяснить, что он обычный, не гомик какой-то, просто его изнасиловали в детстве, и в Армии потом... а с шурином почему так получилось он и сам не знает, что на него нашло. И не объяснишь. Лучше и не думать об этом. Телефон Виталия он переписал в свою записную книжку, чтобы позже позвонить, когда-нибудь.
Месяцев через шесть Олег о нем напомнил, спросил не слышал ли Федор чего о бывшем однокурснике, где он работает-то? Федор решился позвонить, но трубку взяла незнакомая женщина и сказала, что «такие в квартире уже не живут, уехали. Куда уехали? Да куда обычно едут, в Израиль, наверное. И хозяин, и хозяйка, всей семьей. Недавно, недели две как. Нет, адресов не оставляли. Спасибо. Пожалуйста».
Погрустил Федор немного о друге. Опоздал на пол-месяца позвонить попрощаться... И не один уехал, с «хозяйкой» - женился, когда успел-то? За границу умотал - значит уже навсегда. Больше некому будет в глаза заглядывать. Рассказал маме. Она удивилась:
- Смотри-ка, голубой, а женился! А ты чего сидишь? Уж нашел бы себе какую женушку. У тебя и Олег-друг с женой живет и Виталий твой женился, ты один сидишь.
- С чего ты взяла, что он голубой? – удивился даже не тому, что друга голубым назвали, а что мать об этом так просто сказала.
- А то ты не знал? Да я об этом еще когда к тебе в Армию ездили поняла. Кто б еще тебе цветы возить стал, сам подумай. А он тебе не говорил разве?
- Сказал. Но ты же знаешь, что я не такой.
- Знаю. И всё жду, что ты себе кого-нибудь найдешь. Ты не сидел бы дома, сходил бы куда...
Федор особенно не переживал отъезд друга. Ведь они и не дружили последнее время. Три года почти не видились. Это Виталий все к нему тянулся. А Федор был сам по себе. Ему с Олегом было проще. Вот если бы Олег уехал, то тогда было бы совсем плохо. То что не попрощались – конечно жалко. Было ведь и общее. И служили вместе и учились когда-то в институте, да и в больнице работали... как он забыл-то: если всё посчитать то и не один год были вместе, чуть ни каждый день встречались. Это после Армии, когда уже у Федора дома дела семейные начались, перестали они видеться. И когда перехал к матери адреса не оставил, недосуг было. Не ехать же на другой конец города. А когда уже и телефон знал – не позвонил. Хотя мог. Нехорошо получилось. Парень ему в любви столько лет признавался, а он его вроде как и оттолкнул.
И нельзя сказать, что совсем никаких чувств Федор к своему другу не испытывал... Но и не такие чувства были, как тот может быть хотел. Было приятно с ним рядом быть, может быть даже и обнять тоже приятно было бы... Хотя... Теперь, когда он уже точно знал, что Виталий далеко и никогда они больше не встретятся, Федор мог себе позволить немного больше представить. Например, что Виталий обнимает его сзади, как шурин когда-то, или как разведчик... Да нет, он бы так не смог, он не такой был, сам как девочка. Федор помнил как лежали они вместе в деревенской кровати, и Виталий жался к его локтю, прежде чем начал говорить. Лучше бы промолчал он тогда. Хотя почему лучше? Все равно не мог Федор его любить. Он и теперь никого любить не мог, вот ведь беда. Думал, до последнего думал, что хоть с женщинами все нормально будет, а оказалось – не все.
Он встретил ее на работе, когда обходил склад перед закрытием. Обычная женщина, и не взглянул бы на улице. А она посмотрела на него и улыбнулась. Понравилась ее улыбка и то, что она очень просто к нему, без кокетства обычного женского, без жеманства. Как подруга. Познакомились.
На утро пришла и заглянула в комнату сторожей, спросила как ночью было, все ли нормально. Поговорили немного. А когда на следующее дежурство пришёл, так уже и специально искал её. И она ждала его, что придумала - принесла пирожки к чаю, чтоб не тоскливо ночью было. Федор намек понял. Договорились на следующий вечер, что он ее после работы встретит. Так и получилось. Он вина взял с собой, цветов купил на рынке у бабок. Особенно не наряжался, побрился только. Как встретились, он сразу сказал, что с мамой живет, и она согласилась, что тогда лучше к ней пойти.
Пришли. Она цветы в вазу поставила, на стол собрала, вино пить отказалась, а ему налила. Он смушался сильно. Говорить не прекращал, а в голове-то сидело, что секса у него уже так давно не было, что и не помнит, когда последний раз. Как бы не оплошать.
Она очень добра к нему была. И он понимал, что нравится ей. Видно это было по тому, как улыбалась ему, как головой кивала на его шуточки. Но когда он собрался уже ее обнять, да прижать посильнее, вдруг из-за стола выскользнула... Встала, руки перед грудью сложила, улыбается: вроде и ждет его, а вроде и не подойди. Он поднялся, но она головой замотала - нет, не сейчас, дочь должна прийти, в другой раз... И выпроводила. Даже не поцеловал ни разу.
Следующий вечер ему на дежурство было идти, встретились на работе, она опять улыбалась. Он спросил, почему? Что смешного?
- Нет, не смешно, просто хорошо. Тебя увидела. Поэтому и улыбаюсь. Ты сегодня отдежуришь, а завтра придешь?
- Приду, если не прогонишь.
- А я не прогоню. Ты приходи.
Пришёл. Пошли опять к ней, да уже за стол не садились. Как в квартиру вошли, он сразу ее приобнял, к косяку дверному прижал и целовать стал. Не отпустил, пока не нацеловался вдоволь, пока ее губы уже в рот к нему вмещаться перестали, так распухли. Видно было, что и ей нравится - так извивалась в его руках, стонала, охала. А ведь он еще только целовал. Когда раздевать начал, она смущалась сильно, за руки его хватать стала. Но его это только завело, рванул тряпки прочь, впился в нее... Она пыталась было как-то ноги свести, да куда... Одним рывком ногу отбросил, как не оторвал, не церемонился уже, боялся момент упустить. Так его разобрало, озверел, себя не помнил. Когда кончил, только и заметил, что она плачет.
Она призналась ему, что не было у нее никого уже лет пять, забывать стала, что такое секс, поэтому и больно было. Но это ничего - стерпится. Лишь бы ему хорошо было. Он тоже сказал, что давно один, как развелся. Да, она видела, как он горе свое носит, и жалко ей его стало. Вот и улыбнулась ему тогда. Понравился он ей. А она ему? И она ему. Вот и славно.
Но скоро должна была дочь с занятий вернуться, не поваляешься в кровати. Пришлось собираться. Уговорились на следующий раз и полетел он домой. Мать сразу заприметила, что перемены случились. Выспросила кто такая, да где живет, поплакала тут же, и его поругала, что сразу не сказал, она б ему квартиру на вечер освободила. Но может оно и к лучшему, что женщина самостоятельная, и с квартирой, лишь бы хорошо вам было...
Так и повелось, что после дежурства отсыпался и ехал ее встречать. Когда к ней, а когда и к нему шли, не далеко друг-от-друга жили. Все ладно было. Уже и с матерью познакомил, и Олегу похвастался. И самое главное – сам успокоился. Не было больше страха, что не получится у него в сексе.
Раз лежали и начала она его выспрашивать, почему хмурый такой был, что так тяготило его, может с прежней что-то нехорошо? Он молчал. Уж с кем - с кем, а с новой знакомой такие темы обсуждать не собирался. Тогда она сама стала говорить, что у нее не все слава Богу было. Бывший ее, такой добрый, ласковый по началу был, дочку ему родила, а он стал на сторону ходить. Она-то видела. Стала его просить, хотя бы ради ребенка, а он возьми да и скажи, что голубой... и сам всем дает... и что с ней не может уже. Вот такое горе у неё было. И ты не молчи, скажи про своё, Феденька, так легче будет.
И смотрит. Лежит и смотрит на него, как он корчиться будет от ее слов, как трясти его начало, как рот открыл, а крикнуть не может, только зубы оскалил. Как руки в кулаки сжались и не мог он лицо от нее закрыть, а только колотил кулаками по глазам себя. И не вдохнуть, и не выдохнуть, и темно опять...
Когда пришёл в себя, мама была уже рядом. Помогла одеться, отвела домой, уложила в кровать. Ночь не отходила, сидела рядом и смотрела, как он в потолок пялится. А он молчал. Было уже такое, когда он замолкал со своими мыслями наедине... Знала его мама об этом. Поэтому рано поутру, тихонько, чтоб не заметил, собрала дома все веревки, какие были, и сунула в коридоре на антресоли, подальше, за старые кастрюли.
В тот же день попробовала до Олега дозвонится. Не застала. На работе сказали, что у него учеба в другом городе, когда приедет не знают, сами ждут. Вызвала участковую врачиху. Та полистала выписки и сказала, что нужно в психдиспансер, похоже на эпилепсию, нужно обследовать. Но больничный дала. В психушку Федор ехать отказался. Лежал, сверлил взглядом потолок, молчал. Почти не ел, не пил.
С работы приходили, сказали, что держать долго не могут, через месяц придется уволить. Приходила и знакомая его, рассказала матери как лежали они, всё хорошо было, что говорила о своем бывшем, когда Федора колотить начало. Поплакали обе на кухне. Мама, про то что он уже не раз вешался, не рассказывала никому. Зачем из избы сор нести, никого это не касается. Когда подошли вдвоем к кровати, он так дико глянул, что сразу и ушли. О чем говорить, если он и рта не открывает.
Мама его одного оставлять боялась, сестренку Федора вызвала, менялись с ней, когда та могла посидеть. Всё Олега ждала, он лекарства привозил какие-то, помогли они в прошлый раз. Но звонить ходить далеко - до автомата на другую улицу. Между домов хоть и короче, но тоже минут десять.
А мысли у Федора известные были: «Кто выдал? Неужели жена? Да как они познакомиться могли? Или из ментов кто-нибудь? За что? За что его так? И ведь что придумала – вроде и про другого рассказывает, а на него смотрит, его реакции ждет. А что он ответить должен? Да, он тоже был как голубой! Но с ней то всё нормально было. Ведь мог же он ее любить! Зачем же она ему опять об этом? Он ведь не такой, просто так получилось. Так получилось...
Всю жизнь так получается. И не хочет он, а получается именно так! Никогда он не вспоминал, запретил себе помнить, о том как его старый зек насиловал, как ножом ковырял спину, а боль и сейчас отзывалась.
Ах, почему? Если бы не пошли тогда, после демонстрации, вино пить, если бы он не поднялся тогда от костра, если бы... Как было до того хорошо. Его любили, его все любили. И он любил всех. Девочка в классе его была, Леночка – красавица, ведь любила его, всего его обцеловывала. Он её только губами и руками ласкал, а ей так нравилось. Она его тоже губами ласкала. Не стеснялась. Секса боялась, а губами ласкала.
И Олег его любил. А он Олега поцеловал. Видел как друг мучается, сказать не может, и любил его тогда, когда в губы целовал. Любил его. Никогда больше не было такого с ним, как тогда, потому что любил. И сейчас бы опять поцеловал, взял бы руками его за голову и прижался бы к губам, чтобы опять его почувствовать, его любовь... Так это и есть любовь? Наверное это и есть. А он? Что же это получается? Всегда своего друга, любил. Сам тоже такой? Поэтому его всегда и пёрли, что он сам такой?
Сам... И не спрячешь ни от кого, все видят, все, - и особист в Армии, и дружок его институтсткий, и шурин сразу угадал, да и жена наверное тоже сама поняла, как и эта, новая, знакомая – не могла она ни от кого услышать про него. Молчал он, всегда молчал про себя, никому ни слова, ни пол-слова не обронил. Просто видят они. Это как клеймо осталось, после того случая. Не сотрешь ничем. Навсегда.
Поэтому и смотрят на него всегда так странно чужие. И как не прячешь глаза, а все равно заглядывают, проверяют, как-будто мысли читают. А потом не знаешь чего ждать от них: может с кулаками бросятся, а может и нет, или как особист, сзади обхватят. И все теперь знают, что он уже оттраханный. Если выйти сейчас на улицу, просто выйти и пойти к остановке, то опять смотреть будут, тыкать его взглядами сзади, как было уже. И чувствовал он себя тогда так, словно без штанов по улице идет. Почему это ему? За что? Почему не умер он тогда? Зачем так жить? Ведь было уже хорошо всё. А теперь опять сорвался он в свой черный ужас и спать не может, потому что задохнется во сне...».
Так две недели прошло. Раз пять кошмары на него накатывали. Утром как-то попросил Олега позвать. Мама пошла звонить. Олег еще не вернулся, но сказали, что уже скоро, через недельку точно будет. Домой торопилась – знала, что обрадует. А вошла в квартиру и сердце оборвалось: в коридоре у стены стояли пирамидкой старые кастрюли, одна в другую вставленные, и дверца от антресолей, с петелек оборванная...
Часть четвертая (правдивая)
Все, что ни делается - к лучшему.
(правильная пословица)
Я приехал в родной город по семейным делам. Однажды мне уже приходилось возвращаться после службы в армии, и что тогда меня поразило, так это то, что на улицах все люди казались мне знакомыми. Так словно я их и перед тем каждый день встречал, и теперь, через почти два года, вышел из поезда и опять - те же лица. Как одна нескончаемая лента «дежавю»...
Я и сейчас ждал этого чувства, но оно не появилось. Вероятно слишком много времени прошло. Я не ощущал себя в родной среде. Я не видел знакомых лиц. Всё изменилось. Не было ощущения, что я вернулся на Родину. Меня здесь никто не ждал.
Честно сказать, я и не стремился приехать сюда из своей заграницы, где давно уже и быт наладился, и работа, относительный достаток, спокойно-равнодушное отношение соседей к моему открытому образу жизни. Родные мне люди уже умерли здесь. Умерли и друзья. Здесь я давно был один.
Оставались еще несколько двоюродных семей, связи с которыми не оборвались, но там я себя родным не чувствовал. Может быть от того, что не открывался им и не знал, как они будут реагировать? Правы психологи - наши тайны отгораживают нас от людей. Но говорить и не хотелось. Зачем беспокоить кого-то своими проблемами и давать повод к еще одной лавине нелепых сплетен.
Все срочные дела я уже переделал и со всеми успел повстречаться, когда, выходя из нотариальной конторы, вдруг увидел Олега. Он шел неспеша в людском потоке, мне навстречу. Вероятно его неспешность и обратила на себя мое внимание. Внешне он изменился конечно, но я узнал, может быть из-за затемненных очков. Мы не виделись уже очень долго, уж точно больше 30 лет. Господи, как же время летит!
Он узнал меня тоже. Поздоровались довольно сдержанно. Я слышал о судьбе Федора, сам переживал и не хотел бы лишний раз об этом говорить. Но как было не вспомнить? Ведь тот кусок жизни был навсегда связан с ним, с нашим городом. Припомнился и наш давний разговор с Олегом, который когда-то он сам начал, но не закончил, оставив меня в недоумении. Олег, как бы мы мало не были знакомы тогда, остался в моей памяти всегда рядом с Федором. Хотелось поговорить прямо, без обиняков - и о себе, и о том времени, спросить о том, чего я не знал, а он знать мог. Хотелось открытости. Я уже отвык быть тайной за семью печатями.
Но ему предстояло еще совещание в облздраве, и мы договарились после полудня пообедать вместе.
В кафе, когда-то первой в городе столовой самообслуживания, взяли обед, и Олег принялся выспрашивать меня о моем житье-бытье. Последнюю неделю я только тем и занимался, что на подобные вопросы отвечал, поэтому с этой частью беседы разделался быстро. Он мало удивлялся, кивал головой и ел свой обед. А мне не терпелось самому спросить.
Про разговор наш он ответил, что не помнит, чтобы когда-то меня дураком называл, но если мне это надо, может извиниться. И замкнулся, сосредоточился на еде.
Было неловко. Обидеть его я не хотел, но и его закрытость тяготила. Я-то другого от встречи ждал. Было понятно, что сейчас он доест и мы разойдемся в разные стороны навсегда.
- Извини, Олег, что спрашиваю об этом, но мне для себя знать важно. Ты не мог бы мне рассказать, что действительно с Федором произошло, перед тем как вы отравились?
Олег сначало замер с поднятой ко рту вилкой, потом бросил ее в тарелку, сдернул очки и принялся тереть их салфеткой.
- Почему ты спрашиваешь?! Кто тебе дал право говорить об этом?! Кто ты такой!? - Полные губы скривились и ему пришлось взять салфетку ко рту, чтобы слюна не летела вместе со словами.
- Кто ты такой?! Кто тебе рассказал? Федор? Или Котяра наболтал? Это не твоё дело! Понимаешь – это не твое дело! Это не твоя жизнь!
Олег серьёзно разозлился на меня. Поговорили, называется! Черт меня дернул спросить его... Я нервничал:
- Ну да конечно, я-то здесь и ни при чем! Олег, пойми меня! То, что с ним случилось – не только его жизнь испоганило. Мне тоже не легко было. Ведь я любил его! Ведь я его всегда любил...
- Замолчи! Нихрена ты не знаешь! Ни-хре-на! Любил он! Жизнь у него не сложилась... А у кого она сложиться тогда могла, в совдепии? По статье на зону пойти? Да ты хоть знаешь, как я тогда... чего это мне стоило? Мне чего стоило свою жизнь нахрен своими же руками... не знаешь как это? Мне же пятнадцать лет тогда только было! Я уже сто раз потом пожалел, что не сдохли мы тогда... Ты любил. А я не любил? я же вокруг него весь год потом... Отец в Москву перевелся, а я ехать отказался, можешь представить, что это было? Можешь себе представить, что было когда я матери сказал, что отравился из-за того, что я гомосексуалист и что я влюбился? Что Федора люблю! И что никуда от него не уеду. А надо будет - еще раз отравлюсь или из окна выпрыгну. Как мать заставлял, чтобы она ему помогала с переводом в другую школу, а потом в институт поступить? Как я ей, своей матери, жизнь гробил – она со мной осталась, а у отца в Москве своя жизнь была. Да она его ненавидит, Федора, она убила бы его, если б могла. А я-то любил! А можешь ты себе представить, что было когда Федор сказал мне «Никогда!»? Как я выл по ночам, когда он в Армию ушел, а ты к нему ездил? Дураком тебя почему назвал? Да потому,что так и думал, что дурак! А когда узнал, что ты ему открылся, и что за ним в армию пойдешь так еще и уверен был, что полный идиот! Понимал, что ты влюбился и прёшь буром. А я-то ведь знал уже, что это такое - Федора любить! Знал, догадывался, что не выйдет у тебя ничего. А ты пёр все дальше, не останавливался! И я подумал тогда, что может быть ты прав, наверное только так и можно чего-нибудь добиваться... Я тогда, на тебя глядя, многое для себя решил...
– Подожди, Олег, дай с мыслями собраться... Ох, ты меня ошарашил! Спасибо за откровенность... Но откуда ты мог узнать, что я ему открылся? Он еще полгода после моего призыва служил, а я у него еще и раньше был, чуть не за год.
- А мы виделись с ним. Он как-то раз весной приезжал из Армии, никому не говорил, только его мать знала и я. Рассказывал и про тебя и про офицера своего, который с ним «просто дружит». Я ведь все видел, все понимал, и ничего не мог сделать.
То, что Федор мог приезжать на побывку из Армии и даже не сказать мне об этом, в голове плохо укладывалось. И что за офицер? Я думал, что знаю Федора, какой смысл был ему от меня прятаться? Хотя почему и нет, все могло быть. Я давно уже приучал себя не удивляться чужим поступкам, да вот все не мог привыкнуть. Федор ведь ко мне никаких особых чувств не испытывал, чтобы быть откровенным. Это ж только я разлетелся к нему со своей юношеской влюбленностью. А любовь слепа. Я и был слепец.
Однако Олег так резко отреагировал на мою просьбу рассказать о том, что было уже больше 30 лет назад!
- Извини, Олег, не хотел тебя задеть. Я ведь не знал ничего. Я не мог понять, почему Федор так странно себя ведет. Я чувствовал его, понимал, что он может быть не совсем такой как все, но он мне так и не ответил. Ни «Да», ни «Нет»! Он меня к себе просто не подпустил. Совершенно закрытая система. А я потом столько сомневался, мучился. Ты ведь тоже ничего не говорил.
- А я должен был? Да ты и представить не можешь, сколько приятелей он домой приводил, ты может быть пятидесятый, или сотый знакомый был. У него это как страсть была, тащил в дом всех подряд. Мало кто второй раз приходил, но его точно во всех институтах города знали: как с кем-то одним познакомится, так потом всех его знакомых, и знакомых знакомых, и так без конца. Ему окружение нужно было, как свита, чтобы им восхищались. Он же экстраверт, один не мог оставаться. Один он терялся, боялся ненужным быть.
- Тогда ты приходил?
- А такого почти не было, чтобы он один был. Я только и мог со стороны смотреть на его новых приятелей, и как он им мозги пудрит. Но тебя он выделял среди других, еще до того как в Армию уйти. Поэтому и я внимание обратил. Один он остался потом, когда у него дома разлад начался и он в петлю полез. Но я уже в городе не жил, и редко мог помочь.
- И я не знал, где он прятался. Однажды приехал, его жена открыла и так орала на меня, будто я ее насиловать собрался. Ничего толком не сказала, только грязью облила.
- Он рассказывал, что встретил тебя потом, еще до твоего отъезда.
- Да, было. У меня тогда тоже нелегкий период был. Я один был тогда, совсем один. Родителей похоронил. Сестра уже уехала. Меня звала. Я надеялся еще, что Федор позвонит. Но, не судьба. Он даже не сказал мне, где жил тогда. Я его просто потерял. Как оказалось – навсегда.
- Женился?
- Да и женился.Ты - тоже, я слышал.
- И я. Жена... Это сложно объяснять, да и не надо. Она знала, с самого начала про меня. Всё знала. Сейчас она не одна.
- А я своей после развода рассказал. Но она понять не может, или не хочет. Думает, что я ей всегда лгал.
- Ты открыто живешь?
- Да, наверное открыто, но флаг в форточку не вывешиваю. У меня и нет. Соседи знают, хозяин дома тоже. Ну и на работе не скрываю. Так проще.
- Проще?!
- Да, проще. Не нужно прятаться, скрывать что-то. Ведь тяжело в себе тайну хранить. Я-то знаю, есть с чем сравнивать. Теперь – легко.
- Может быть. Но у нас так нельзя.
- Поэтому здесь и не живу. Интересно, а его мама знала причину, из-за чего вы отравились?
- Знала. Но он с ней не говорил об этом. Он ни с кем об этом не говорил. Даже со мной. И всегда реагировал как-то дико, если его спрашивали, поэтому никто и не лез с распросами. Он после реанимации как окаменел. Я потом уже понял, что с ним происходило: он как рак в раковину залез и остался там. Как за каменной стеной. В панцире. Рак-отшельник. И не рос - панцирь не давал. У него и психика и интеллект как у подростка оставались. В институте это еще не так заметно было, что там через три-пять лет, сами еще дети были, а позже, после Армии уже явно стало. Он и учиться наверняка поэтому тогда не смог. Понимаешь? До тех пор, пока он был своей тайной связан, пока он ее так тщательно от всех прятал, он и сам там рядом, в том времени оставался. Не мог правильно ни себя, ни ситуацию оценить. Абсолютная неприспособленность к реальной жизни. Его и дурили поэтому как ребенка. А он не понимал, опять обижался и снова в скорлупу. В панцирь!
- Бедный Федор. А ведь как все могло бы быть просто – выговориться. И не надо ведь всем открываться, только самым-самым близким. Маме рассказать, что она не поняла бы?
- А ты много своей рассказывал?
- Не успел. Сначала боялся огорчить, а потом повода не было - не было же у меня никого. Хотя ты прав. Я тоже боялся, что не поймет. Просто не захочет понять. И оттолкнет; оторвет от себя – и тогда совсем одному...
- Понять и принять – разные вещи, - Олег тяжело вздохнул,
- Моя вот поняла, но соглашаться не собиралась. Помогала только из опасения, что я опять что-нибудь с собой сотворю. У Федора могло по другому быть, но он сам не хотел.
- Я не могу понять, Олег, а почему он с тобой не хотел говорить? Ладно, я позже появился. Вы же были вместе со школы. Он не доверял тебе? Или ты ему про себя не говорил?
- Говорил. Но проблема не во мне была, а в том, что он сам себе боялся признаться. Он боялся себе сказать, что уж - другим.
- Значит, он не ощущал себя геем.
- А он и не был чистым геем, скорее би. Как, впрочем, и ты, и я. Может быть у него гетеро-часть тогда перевешивала. Это сложно сейчас разобраться - что было, кто и что чувствовал тогда. Если бы не было того случая в школе, наверняка вся жизнь по другому сложилась бы - и у него, и у меня. И у тебя вероятно тоже.
- Ты о том, что было перед отравлением?
- Да! Как-будто не знаешь - изнасилование было. Нас просто оттрахали! И меня, и его.
- Не знал. Предполагал, догадывался, но не знал.
- Теперь знаешь. Легче стало?
- Нет конечно, Олег. С чего мне-то легче станет? Но по крайней мере понятно, чего он боялся, и почему у меня тогда все так прекрасно в жизни не получилось. Ведь держался за него, за надежду на любовь от него до конца держался... И все к черту! Считай вся жизнь – к черту!
- Ты не сильно виноват.
- Да. Но, что уж теперь об этом... А знаешь, я очень сильно переживал, что не смог сказать ему о своей любви просто. Нагородил черт знает что! И был уверен, что оттолкнул его этим от себя; оскорбил уже тем, что только подумал о нем, как о гее. Потом все годы вернуться хотел к разговору, но боялся, что не захочет он со мной даже и говорить, если я опять про это начну. Какой же я действительно был дурак, господи! Может быть ему просто откровенность была нужна?
- Не выдумывай. Дело не в тебе. Он не хотел откровенности и боялся открытости, он прятался от этого и если бы ты еще раз попробовал заговорить на эту тему, то реакция была бы таже самая – «НЕТ! Никогда и ни с кем! Я - нормальный!» Точно знаю. Пробовал. Я много думал об этом. Если бы мы могли себя со стороны увидеть, свою жизнь, как в кино, от начала прокрутить, или просто прочитать, как свой дневник перечитать, и понять, что же это было, каким я был, каким меня другие видели. Это помогает, и ему бы помогло точно - себя понять. Понимаешь, о чем я? Себя понять. Самому себе сказать: да, я голубой, и - закрыть тему, чтобы жить дальше. Он даже этого боялся и жил как-то урывками. Не было у него настоящей жизни. Да он и сейчас не вполне осознает, кто он и что с ним произошло. Вернее не так: он осознаёт, но боится открыто признавать.
- Не понял, кто осознает?
- Федор. Или ты думаешь, что это я про себя тебе распинаюсь? Нет, я уже давно все про себя знаю.
- ???
- Ты что?
- Я слышал, что он повесился!
- Да живой он.
Не сомневаюсь, что выглядел со стороны глупо. Олег усмехался, глядя мне в глаза, теперь днем я это точно видел, даже и сквозь его затемненные стекла.
- Не все ж на заграницу вашу удивляться, мы тоже можем кой-чем... – в голосе его слышно было явное торжество: утёр-таки нос.
- Что же ты сразу не сказал? Я о нем как о покойнике, а он - жив?
- Жив. А что не сказал, так ты и не спрашивал.
- Так, хорошо! Прекрасно, Олег! Теперь я спрашиваю: он сейчас где? Он в городе живет?
- Ишь, какой прыткий! Но, собственно, я так и предполагал, что ты захочешь к нему пойти, и если б я тебе сходу все рассказал, так ты мне пожалуй и поесть не дал бы?
- Олег! Ты шутишь?
- А чего шутить-то. Пойми - я не хочу, чтобы его что-то назад к старым страхам толкнуло. Он изменился, да. Но и скорлупа его тоже осталась. Мы в России живем, не у вас там на западе, здесь без панциря нельзя. Меня он не боится, - Олег улыбнулся, - А тебя?
- И чем же я могу так испугать?
- Вопросами, дорогой, вопросами... Вон как мне аппетит поднял, едва не подавился.
- Побожиться должен, что спрашивать не стану?
- Ну побожись... Зарекался кувшин по воду ходить! Все равно же не обойдется. Но даже и не это... А ты когда уезжаешь? – вдруг перескочил через тему Олег
- Да у меня завтра в два самолет! Олег, не томи!
- Эх, уговорил!- он достал мобильный телефон и пощелкав кнопками позвал в трубку: - Алло-о-о... Федор, ты чего так долго? я через пол-часика зайду... но не один, хорошо? Там увидишь.... Нет, не надо ничего, поели уже. Чего-нибудь купить? Хорошо, возьму. .. А ты завтра отдыхаешь? Ну и прекрасно. Давай! – он закрыл крышку Нокии.
- Ну что, двинули? Зайдем еще за хлебом. Что ты всё смотришь на меня? Или не веришь?
- Господи, Олег, я сейчас рыдать буду...
- Э, нет! Только без этого, пожалуйста... Про возраст вспомни, про внуков, чего уж тут сырость разводить.
- Окстись, я еще не дед. Надо же! Про возраст...
- Я не говорил тебе, что после последнего случая, когда я приехал, он совсем плохой был. Я его к себе забрал. Дом у меня в деревне большой и для него комната нашлась. А сейчас у него здесь квартира. Теперь и я к нему в гости... иногда.
Мы зашли еще в хлебный, потом в гастроном взять чего-нибудь к чаю, долго рядились какой торт выбрать. Вино Олег покупать запретил, набрали фруктов, шоколад. Я позвонил своим родным, чтоб не ждали к ужину, а может и вообще ночевать у друзей останусь; взрослый племянник пожелал мне удачной ночи...
Зашли в подъезд, поднялись на этаж. То, что все происходит со мной реально, я не столько умом понимал, сколько ощущал болью на сгибах пальцев - режущую тяжестью пакетов с продуктами. Пластик вот-вот был готов растянуться лохмотьями, прорваться, вывалив всё на грязный бетонный пол. И я перехватывал пальцами края пакетов все дальше и дальше, чтобы удержать, не дать порваться. Я и себя точно так же перехватывал и за края удерживал, чтобы сохранить тонкую пленку, под которой уже ничего и нет, что могло бы меня удержать, не дать рассыпаться прямо перед дверью уже самому.
Олег открыл дверь своим ключом. Вошли. Издалека, откуда-то из комнаты раздался голос, совершенно тот же, ничуть не изменившийся:
- Ну что так долго? Я ждал...
Он подошел к двери в коридор и стал в поток света. Солце било в незашторенное окно за его спиной и скрадывало контуры фигуры. Боже, кажется, я рисковал снова ослепнуть.
Олег переобулся в тапочки и перехватил у меня пакеты.
- Ну что? Узнаешь? Видишь, кого я к тебе привел.
- О, Виталий?..
Когда Олег вернулся из кухни и встал рядом с Федором, я еще не вполне с чувствами справился, в том смысле, что еще не пытался.
- И что вы молчите-то? Так и будете стоять? Федь, ты б гостя в дом пригласил, что ж ты его у двери держишь? Ну и?
А что – «ну и» ? Я одной рукой глаза тёр, а другой за косяк держался. Ситуация – глупее не придумаешь...
- Э-э, друзья, про внуков-то не забываем! – Олег вытолкал меня из коридорчика, и, одной рукой продолжая подталкивать в спину, второй обхватил Федора и сдвинул нас, поставил, едва не насильно, друг перед другом...
- Пока вы тут встрече радуетесь, я пойду переоденусь, не буду смущать.
Бог мой! Да разве это возможно – описать, что чувствуешь, когда обнимаешь друга, которого уже похоронил в душе, но любил столько лет, и по настоящему любил, который всегда оставался в памяти, как первая любовь. И где ты был, Господи, тридцать лет назад, что я только сейчас мог первый раз в жизни коснуться губами его щеки...
Минут через двадцать, когда мы с Федором уже сидели на диване обнявшись и вспоминали, как когда-то знакомились в институте, через комнату в ванную прошел Олег, одетый уж совсем по-домашнему - в халат, пижамные штаны, и, поймав мой удивлённо-вопросительный взгляд, рассмеялся:
- Я же тебе говорил - не твоя это история, а ты всё не веришь...
2011г.


