Курос (Антон)
Вполголоса
Аннотация
Рассказанная вполголоса история о человеческих судьбах. Тайны прошлого, изгнание из отчего дома, страх открыться любимому человеку, любовь... Григорий возвращается в родной город на похороны отчима, и эта поездка меняет его жизнь.
… Когда будильник запел в семь тридцать, Григорий, чуть приоткрыв глаза, переставил его на час вперед. Полная программа вышла долгой. Иван тихонько похрапывал рядом с ним; во сне он выглядел юным и беззащитным. Григорий поправил одеяло. У него мелькнула мысль, что ехать на поминки было необязательно. Мать так и не позвонила; возможно, присутствие сына было, очевидно, не нужно.
Иван разбудил его ближе к девяти.
- Гриша, мы проспали, или ты переставил будильник? – он присел на кровать рядом с Григорием. – Метель закончилась. Там сугробы по колено.
Вместо ответа Григорий притянул Ивана к себе. Тот уже успел побриться. Соблазн остаться дома, вдвоем, никуда не ехать, был почти непреодолим. Ночь нужно было скрепить любовью в дневном свете. Но и поездка не казалась тяжелой.
Приедем, посидим часок за столом, решил Григорий, остановимся в гостинице, утром двинемся в обратный путь.
- Поедем? – спросил Иван.
- Да, - ответил Григорий, - поедем, не торопясь. Ты пойдешь на поминки со мной, конечно же. Попрошу помощницу, чтобы заказала нам номер в какой-нибудь гостинице. Покажемся у матери ненадолго и уйдем. Такой вот план действий.
- Приготовлю завтрак, - согласился Иван.
- А я в душ, - Григорий откинул одеяло.
- Ну, с утренней эрекцией у нас все в порядке, - рассмеялся Иван, глядя на Григория. – Красиво. Чудо стоящего члена.
-Сделаем это по-быстрому? – Григорий взял Ивана за руку и сомкнул его пальцы на своем члене. – Успеем?
Они выбрались из дома в одиннадцать, умиротворенные и спокойные. Стена между ними рухнула. Ничто больше не отделяло мужчин друг от друга; не нужно было никуда спешить, не нужно было ничего скрывать, можно было жить, просто жить, зная, что химеры одиночества растаяли в свете любви.
Метель, должно быть, прекратилась под утро, и снегоуборочные машины успели расчистить большинство улиц. Стоял легкий морозец: сквозь высокие серые облака проглядывало неяркое зимнее Солнце. День выдался не по-декабрьски светлым, как раз для предстоявшей мужчинам поездки в Тверь.
Григорий редко вспоминал родной город. В его памяти остались Трехсвятская улица, мосты, переброшенные через Волгу, сама лента реки, но все образы были подернуты патиной времени и утратили четкость. Связь с семьей была утрачена, детство и юность остались в далеком прошлом.
- Там должно быть красиво, в Твери, - сказал Иван, когда они вырвались за МКАД. – Я тут смотрю фото.
Григорий улыбнулся. Иван любил путешествовать и к поездкам в новые места подходил основательно. Во Флоренции, несмотря на зной, каждый день они выполняли один из пунктов обязательной культурной программы, быстро составленной Иваном накануне отъезда. Сам Григорий с большим удовольствием дремал бы у бассейна дорогой гостиницы в предместьях чудесного города, но не хотел показаться молодому спутнику увальнем, которому бы только поесть да поспать.
Тогда, летом, мы не были так близки, как сейчас, подумал Григорий, но возможность слияния уже существовала. В какой-то миг, ускользнувший от нас, но решивший наше будущее, прошедшая ночь, исповедь Ивана, обжигающие искренностью слова, которые мы говорили друг другу под стоны метели, все это стало неизбежным. Мы могли потерять друг друга, упустить, оттолкнуть, но остались вместе.
У Григория вскипели слезы.
- Гриш, ты в порядке? – спросил, повернувшись к нему, Иван. – Можно будет по дороге остановку сделать. И надо было выспаться, конечно, перед поездкой, но ночь была не для сна.
Он чуть закусил губу, стараясь сдержать улыбку, не вполне, по его мнению, уместную – они ехали на поминки, в грусть и печаль.
Григорий тоже улыбнулся. Мощная машина хорошо держала зимнюю дорогу, но он не прибавлял скорость. Не хотелось торопиться. Да и некуда было спешить – он не собирался долго сидеть за столом, звонок, как ни крути, был от постороннего человека, от Клавдии Петровны – Григорий невольно возвращался к этому. Час, который Григорий собирался провести с матерью, все сокращался, став, в его воображении, кратким объятием и несколькими ничего не значащими словами. Отчим не любил его, мать выставила из дома – зачем лгать самому себе?! Он добился успеха и не намеревался останавливаться, перед ними с Иваном открылась целая жизнь, появилось, ради кого стараться, но никто из деловых знакомых не должен был узнать о том, что любимый человек Григория – мужчина. Так не проще ли было превратить свое счастье в крепость, неуязвимую для бед окружающего мира?!
- Ты не грустишь по матери? – спросил Григорий Ивана. Подобные прямые вопросы, раньше невозможные, теперь звучали естественно. – По родной семье?
- Знаешь, иногда грущу, но не своей матери, а по некоей идеальной матери, созданной поддерживать и защищать своих детей. Гриша, в первые месяцы после ухода из дома я ждал, когда же она позвонит мне – мобильный--то остался при мне. Позвонит, спросит, где я, как я. Но телефон молчал. А года через полтора я сменил номер. Поминаешь, я исчез, умер, канул в небытие, как и крикнул мне отец. Моя жизнь сейчас – своего рода жизнь по другую сторону. Я не могу вернуться к ним. Меня все еще можно найти – есть мои странички в соцсетях, но меня не ищут. Меня просто не стало, и порой мне до сих пор от этого жутко. Но вот они живы, я знаю, отец по-прежнему преподает математику.
Пошел легкий снег, волшебно красивый в последних тусклых лучах Солнца, уже готовившегося скрыться за горизонтом.
- Хочешь поехать куда-нибудь на Новый год? – спросил Григорий. – Вернее, хочешь к морю-океану или в Европу?
- Можно погреться, - откликнулся тот. – Не поздно мы спохватились? Уже декабрь, билеты, наверное, раскуплены.
- Полетим первым классом, там всегда есть места,- просто сказал Григорий. – Какая разница?! Начнем отдыхать прямо в самолете, выспимся.
Иван улыбнулся.
- Ну, раз так, я готов.
Он впервые не стал спорить о тратах, щепетильно настаивать на оплате своей половины расходов.
Ночью, когда продолжился их до жути откровенный разговор, Иван объяснил Григорию:
- Знаешь, для меня деньги и подарки – противоположность чувств. Так сложилось, когда я жил на содержании у тех дядек. Если уж откровенно, я себя продавал, и не задешево. Поэтому не обижайся, если я все еще болезненно отношусь к дорогим подаркам от тебя.
-Да для меня это счастье – баловать тебя, - ответил Григорий. – На кого же мне тратить, если не на любимого человека?! Я – обычный современный мужчина, как мне еще выразить чувства?! И рад бы по другому, не знаю только, как.
Тогда же у Григория мелькнула мысль, не настала ли подходящая минута, чтобы предложить Ивану перебраться к нему – зажить семьей. Но страх отказа остановил его. Торопиться не стоило. Позже, чуть позже.
Снегопад закончился также неожиданно, как и начался. После Клина они ненадолго остановились у придорожного супермаркета и выпили кофе в ресторане. Им предстоял последний рывок до Твери.
На тошнотворный миг Григорию показалось, что он забыл адрес и не помнил, куда направляться в самом городе. Он представил себе, как звонит матери и спрашивает, куда же ему ехать. Но нет, из глубин памяти поднялись и название улицы, и номер дома. Он позвонил Клавдии Петровне, ответившей ему робким : «Здравствуйте!», и сообщил, что будет ближе к вечеру.
Скорее бы все закончилось, подумал Григорий. Хочу в гостиницу. Хочу быть вдвоем с Иваном. Люблю его. Только его.
Декабрьский день угасал. В свете фонарей и фар заискрился снег; в придорожных постройках зажглись окна, кое-где уже украшенные гирляндами лампочек, а из темно-синей мглы, зарождавшейся в стороне от шоссе, к людям вкрадчиво приближалась долгая ранняя зимняя ночь, дышавшая холодом.
Иван задремал. Григорий почувствовал, что устал, устал от дороги, от ожидания встречи с матерью. Он не хотел вспоминать о своей юности и теперь сопротивлялся возвращению в прошлое. Это противоборство изматывало.
Они въехали в Тверь.
- Точно хочешь, чтобы я пошел с тобой? – спросил Иван. – Могу сразу пойти в гостиницу, подождать тебя там.
- Ты идешь со мной, - негромко ответил Григорий, чувствуя одновременно решимость и глубокое успокоение. – Мы не задержимся. Ты – самый важный человек в моей жизни. Понимаешь? Самый важный. И моя мать или примет нас, или еще раз отречется от меня, теперь навсегда.
Иван кивнул головой, потом потер переносицу жестом, перенятым у Григория, и сказал:
- Да. Ты тоже самый важный для меня. Идем вместе.
Дом постройки семидесятых, , нужный мужчинам, стоял на одной из улиц неподалеку от Октябрьского проспекта.
Прими меня или прогони, сказал про себя Григорий, обращаясь к матери, это не важно, потому что я принял сам себя. Я люблю и любим.
Григорий припарковал машину. То ли от начинавшегося морозца, то ли от волнения, его зазнобило. Они с Иваном подошли к нужному подъезду как раз в тот миг, когда из него вышла какая-то девушка, придержавшая для них дверь. Мужчинам был нужен третий этаж.
Представляя себе поминки, саму сцену встречи с матерью, Григорий был уверен, что уже на лестничной площадке увидит вышедших покурить бывших сослуживцев отчима. Но никого не было. Он взглянул на Ивана, непривычно торжественного в темном костюме, и позвонил в дверь.
Им открыла Клавдия Петровна, превратившаяся за те годы, что Григорий ее не видел, в сухонькую, легонькую, застенчивую женщину всего в одном шаге от старости. Но мать, вышедшая из кухни, была все еще красива. Увидев Григория, она ахнула и пошатнулась, словно потеряв равновесие.
Иван первым понял, что происходило. Он тут же подхватил мать Григория и, повернувшись, отчаянно, быстро сказал:
- Обморок! Помоги!
Но мать Григория устояла на ногах. Она дико, жалко, умоляюще посмотрела на сына, когда-то отлученного от родного дома, и безудержно разрыдалась в руках Ивана. Тот осторожно передал ее Григорию. Из «большой» комнаты, гостиной, выглянул и тут же скрылся незнакомый Григорию седовласый мужчина.
- Все в порядке, все в порядке! – Клавдия Петровна махнула ручкой и ушла следом за ним, притворив за собой дверь.
Григорий, сняв куртку, увел мать на кухню и сделал Ивану знак идти за ними.
Мать села на табуретку и перевела дух. Потом она подняла глаза на Ивана, и Григорий мягко сказал:
- Это Иван. А моя мама – Лидия Николаевна.
- Иван, - эхом повторила мать Григория. – Хорошее имя. Иван, значит. Простите, Ваня. Держалась-держалась, и вот расклеилась к вечеру. Ну, да что это я! Вы же с дороги! Курочка запеченная, картошечка, сейчас я вас покормлю, - и она направилась к плите.
Григорий хотел было сказать, что они не голодны, но Иван мимолетно дотронулся до его руки и чуть заметно покачал головой.
- Да, давай, мам, - покорно сказал Григорий, садясь к шаткому старенькому столику. – Я не думал, что все так скоро разойдутся.
- А никого и не было, - спокойно откликнулась мать. – Валентин тяжелым человеком стал, Гриша, рассорился со всеми, пил – тихо, но пил. Кое-кто из бывших друзей после кладбища заглянул его помянуть, но ненадолго - те, кто сами живы еще. Руки! Вы руки не помыли! – и она, обернувшись через плечо, строго взглянула на мужчин. – Гриша!
Они послушно отправились мыть руки. В маленькой ванной Григорий не выдержал и тихонько рассмеялся. В памяти всплыли те бесконечно далекие годы, когда мама отчитывала маленького сынишку за проделки и шалости, не повышая голоса, но укоряя за невоспитанность и озорство.
На кухне дурманяще пахло отварной картошкой, разогретой в растительном масле, и запеченной куриной кожицей. Мужчины неосознанно переглянулись и сели к столу. Ни один из них много, много лет не ел еду, приготовленную родным человеком, матерью. Они забыли, как вкусны самые незатейливые блюда за семейным столом. Никакие сложносочиненные экзерсисы столичных шеф-поваров не могли заменить вот такого простого ужина.
- Не знаю, как себя вести с вами, - тихо призналась мать, присаживаясь к столу. – Жизнь прожила, а не знаю. Ешьте, не стесняйтесь.
Она все разглаживала и разглаживала салфетку, словно собираясь с силами для чего-то важного. Григорий вдруг понял – мать не налила им с Иваном по стопке водки. Разве так не было принято на поминках – выпить за упокой души ушедшего человека?
- Расскажите мне, как вы там живете, - сказала мать. – Давно не выбиралась в Москву. Ну, Гриша знает. Вроде бы и ехать не так уж долго, а с места не сдвинешься.
Пошел сдержанный, осторожный разговор о столичном житье-бытье. Иван, к облегчению Григория, направлял беседу к культурным темам – художественным выставкам, спектаклям, книгам.
- Гриша, мне надо с тобой поговорить, - решилась мать, когда мужчины поели. – Ваня, простите, это семейное дело. Мы недолго.
Они прошли в гостиную, где седовласый незнакомец и Клавдия Петровна рассеянно смотрели телевизор. На всем: на старомодной мебели, выцветших занавесках, когда-то пестром, а теперь вылинявшим от времени коврике над диваном, одним словом, на всей не бедной, но и не современной обстановке лежала печать невнимания хозяев к окружавшим их вещам. Встречаясь с матерью, Григорий всякий раз предлагал ей деньги, и она всякий раз отказывалась, говоря, что они с Валентином не бедствовали. От квартиры, действительно, веяло не убогостью и нуждой, а запустением, словно помыслы хозяев всегда были далеко от дома.
- Мне нужно с Гришей поговорить, - сказала мать. – Присаживайтесь, Ваня. Клава, чайник поставь.
Она открыла дверь во вторую, маленькую комнатку, пропуская сына вперед. У того заняло сердце. Что мать хотела сказать ему?
- Валентин здесь и жил, - сказала мать, присаживаясь на стул перед столом с компьютерным монитором. – А я – в гостиной.
Она взяла со стола старый на вид блокнот.
- Он скоропостижно умер, от сердечного приступа. Меня и дома-то не было, вернулась из магазина, а он словно уснул. – Она усилием воли, от которого у Григория защемило сердце, сдержала слезы.- Не болел, не мучился, просто ушел.
Мать чуть помедлила, а потом протянула сыну блокнот:
- Стала рубашку Валентину хорошую искать, на похороны, и в глубине его шкафа нашла вот это. Гриша, я и прочла, что там написано. Тебе не позвонила, потому что решить не могла, нужно ли тебе приезжать. Знала, что, если приедешь, не удержусь и дам тебе это прочесть. А Клава настояла, что позвонить все же нужно.
Григорий взял блокнот в дешёвенькой обложке. Мать вдруг тихо, безысходно расплакалась, закрыв на миг лицо руками.
Выплакавшись, она продолжила:
- Мужчина у меня есть, любимый, много лет, Гриша. Он в гостиной сейчас, Вениамин. Женат он. Видно, судьба у меня такая, женатых любить, как твоего отца. Будь иначе, будь Веня свободен, ушла бы к нему давным-давно. А если бы знала, что с Валентином творится, ушла бы и не к Вениамину, а куда угодно, лишь освободить и его, и саму себя. И тебя, получается, я, Гриша, не поддержала, когда нужно было, но и свое счастье упустила из-за страха. Читай! Там про тебя написано. И не прошу, сынок, простить меня. Не надо, не прощай. А Ваня твой хороший.
Мать поднялась и вышла из комнаты.
Григорий открыл блокнот. На первых, чуть пожелтевших от времени листках были какие-то списки покупок, колонки с цифрами расходов, но далее начался текст.
Григорий начал читать, и, по мере чтения, события давно прошедших лет приобретали для него смысл, который он не мог понять раньше. Его охватывали то грусть, то омерзение, то искренняя жалость. В блокноте была исповедь Валентина, его отчима. Текст так и назывался: «Исповедь».
Исповедь
Единственное объяснение, которое я сам могу дать тому, что со мной происходит все эти годы, состоит в следующем. Гомосексуализм заразен, это болезнь, и в наше время она сочится отовсюду – из телепередач, журналов, песен. Гомосексуализм – постыдная, отвратительная зараза, и я заполучил ее. Это – мое наказание за грехи.
Потому что только так я вижу сам себя - отравленным. Мое сознание распадается, я утрачиваю способность ясно и четко мыслить.
Пока он оставался рядом, у меня не было ни малейшего шанса выздороветь. Так я думал тогда, в те жуткие дни.
Он. Григорий.
Мне страшно даже написать несколько чудовищных по смыслу слов.
Меня… Я… Меня охватило влечение к Григорию. Меня охватило влечение к сыну Лидии.
Вначале Григорий был просто маленьким мальчиком, тихим и послушным. На него можно было не обращать внимания, он сам делал уроки, наводил порядок в своей маленькой комнатке, прекрасно воспитанный Лидией, растившей из сына самостоятельного человека.
Я не замечал его ребенком, не замечал и подростком, некрасивым в тринадцать, четырнадцать лет – угловатым, застенчивым, вечно с каким-нибудь болезненным на вид прыщиком над губой, скрывавшимся среди смешных усиков.
Но в шестнадцать, ближе к семнадцати, перед выпускным годом в школе, он расцвел, и в одной квартире со мной оказался юный мужчина, излучавший победоносную, дерзкую, уверенную в себе красоту молодости.
Перемена случилась чуть ли не в один день – однажды утром он вошел на кухню, где я пил чай, и, пробормотав «Привет!», открыл холодильник. Он сиял в лучах раннего Солнца, понимаете? Его совершенство было… Чуть не написал «божественным». Его совершенство было дьявольским. Вот в чем было дело. Юноша искушал, манил, завлекал.
На миг, на жуткий миг, растянувшийся для меня вечность, меня охватило дикое по силе желание дотронуться до него, провести пальцами по все еще нежной коже, не огрубевшей от времени, благоговейно покрыть поцелуями гибкое тело, овладеть им.
Наверное, не войди тогда на кухню Лидия, я не удержался бы и пал.
Но она вошла. Помню дикий взгляд, с которым она посмотрела на меня. Она не могла понять, что творилось со мной в те минуты, не могла, но материнский инстинкт, очевидно, это был он, великий инстинкт уберечь свое дитя, подсказал ей, что Григорий в опасности.
- Гриша, не привыкай ходить по дому без рубашки, - строго сказала она сыну. – Мы же не на даче. И закрой, пожалуйста, холодильник. Реши , что хочешь взять, и закрой.
Жуткая минута прошла.
Я выбрался из дома, чувствуя себя оглушенным. Да я и был оглушен и добрался до работы, словно в кошмарном сне; мне нужно было решить, как жить дальше.
Уйти от Лидии?! Но я любил ее, люблю и сейчас, уход, развод были немыслимы. Единственным выходом было как можно меньше видеть Григория, не соприкасаться ним, дотянуть кое-как до его неизбежного ухода из дома – он собирался поступать в московский вуз.
Весь тот день он стоял перед моими глазами, спокойный, прекрасный, не осознающий свою силу. В другом мире я мог бы стать его опорой в годы возмужания, его старшим другом, ментором и товарищем, но это было невозможно.
Вечером того зловещего дня я затеял с Григорием ссору, отвратительную и жестокую, а потом тоном, не допускавшим возражений, объявил Лидии, что не хочу больше ужинать за одним столом с невоспитанным, неблагодарным мальчишкой.
Всю ту ночь я погибал от желания пойти в комнату к Григорию и извиниться перед ним. Юноша был ни в чем не виноват. Но я знал, что если я войду к нему, если мы останемся вдвоем в душной, темной ночи, я не смогу сдержать себя.
Я знал, что смогу выжить, только если возненавижу Григория, если возненавижу всех мужчин, испытывавших постыдное влечение к собственному полу.
Понимая, что веду себя нелепо, я начал при любой возможности, по любому поводу зло и ядовито прохаживаться насчет «педиков», глумиться над ними. Я разрушал сам себя, потому что в самых потаенных глубинах души знал, что гомосексуалисты не чудовищны, не ужасны, потому что я сам видел мужское тело прекрасным. Да, меня захватила мужская любовь как таковая; дело было уже не в Григории, а во мне самом, в моей тяге мужчинам. Я знал и другое – я никогда не испытаю близость с мужчиной, ни физическую, ни духовную.
Я – трус.
От моих жестоких слов по лицу Лидии порой словно проходила судорога затаенной боли, но я не мог остановиться. Я ненавидел сам себя, ненавидел всех нас, мужеложцев, грешников, не способных обуздать свою извращенную природу.
После школы Григорий поступил в столичный вуз и уехал из Твери.
В тот день, когда Лидия сообщила мне, что он принят, я дико, до бесчувствия напился. О всех последующих событиях в его жизни – ранней женитьбе, скором разводе, успехах в делах, я узнавал от нее.
Я начал пить, превратившись в тихого домашнего алкоголика.
Не сомневаюсь, что у Лидии есть мужчина. Она все еще хороша собой, такая же ясноглазая, как в молодости, и с теми же веснушками на носу, придающими ей озорной, веселый вид, хотя ее жизнь не весела.
Я проклят, все мы прокляты, и, когда мне придет пора уходить, я отправлюсь в ад.
Но в моей памяти сохранился один чудесный день, и воспоминания дают мне проблеск надежды на высшее милосердие в другом мире.
Стояло лето, первое лето нашей с Лидией семейной жизни. Мы все вместе, втроем, с маленьким Гришей, навещали моих друзей на даче, и там-то я и отправился запускать воздушного змея с сынишкой любимой женщины, недавно ставшей моей супругой.
Помню, когда мы шли к проселочной дороге, продуваемой нужным нам ветерком, Гриша застенчиво взял меня за руку. Это был жест признания, наверное, но тогда я не придал этому значения. Сейчас же, десятилетия спустя, приближаясь к завершению своей пустой, бессмысленной жизни, я словно чувствую робкое прикосновение детских пальцев к своей руке и вижу его доверчивую улыбку.
Как бы то ни было, как бы слабы и несовершенны мы были, счастье возможно. Не для меня, нет, я – человек конченый. Но Григорий может быть счастлив, и Лидия, и те, у кого достает мужества любить не по указке, даже зная, что их любовь греховна.
Я молю об одном. Пусть я уйду из этого мира по пыльной, согретой Солнцем дороге, и пусть меня проводит в небытие маленький вихрастый мальчик, которому было суждено открыть мне мою истинную природу».
Григорий закрыл блокнот. Исповедь.
Затем он встал и выглянул в гостиную. Иван и Вениамин разговаривали о чем-то, связанном с компьютерами. Мать робко посмотрела на сына и поднялась с кресла.
- Мы поедем, наверное, - сказал Григорий. – Утром в обратную дорогу.
И, сдержанно улыбнувшись, сказал сердечному другу матери:
- Рад с вами познакомиться, - едва удержавшись от повторения Павлушиных слов: «Но обстоятельства знакомства трагичные».
Григорию вдруг нестерпимо захотелось как можно скорее выйти на свежий воздух. Он хотел было отдать блокнот матери, но она чуть заметно покачала головой, а в прихожей, обняв его, быстро прошептала ему: « Забери блокнот, прошу тебя! Сожги, или выбрось, сама не смогу, буду только мучиться».
Сцена прощания быстро завершилась; Григорий пообещал матери позвонить из Москвы. И он, и она знали, что после долгих лет отчуждения возобновление родственной связи могло быть только формальным, поверхностным, что нужно было приложить немало усилий, чтобы по-настоящему сблизиться. Но, возможно, подумал Григорий, спускаясь по лестнице, начинать всегда приходится с малого?
Он был потрясен исповедью отчима. Слова чужого человека обжигали. И в то же время, Григорий не был уверен, что мать поступила правильно, дав сыну злополучный блокнот. Почему она не изорвала в клочья исписанные аккуратным почерком страницы?! Не смогла, потому что, каким бы ни стал ее муж, любовь не ушла, и она все еще любила того статного мужчину, которого, казалось, ей послала сама судьба после долгих лет одиночества?
Не надо было со мной этим делиться, с неожиданной для самого себя злостью подумал Григорий. Я на тебя не рассчитывал, ни в чем, все эти годы, так и не тревожь меня, - мысленно говорил он матери по дороге в гостиницу. Иван, почувствовав настроение, Григория, молчал до самого номера, оказавшегося вполне уютным полулюксом с двумя кроватями.
Иван с облегчением снял пиджак, потянулся и вдруг прямо, спокойно спросил у Григория:
- Что случилось? Я же чувствую, тебе нехорошо.
Григорий помедлил. Как много откровенности способна выдержать любовь? – спросил он сам себя. Мать отдала мне этот проклятый блокнот, так что же, передать его дальше, Ивану, как будто у того не было своих душевных ран? Но выбора не было.
- Прочти, - и Григорий протянул блокнот Ивану. – Мать нашла в вещах отчима. Возможно, было бы лучше, если бы она его так и не открыла.
Григорий опустился в кресло у журнального столика. На миг его охватило омерзение, как при чтении исповеди – сам того не ведая, в юности он был объектом желания взрослого мужчины, мужа матери. И что это за чудовищная судьба для нее – узнать, разменяв седьмой десяток лет, что она не знала, с кем жила? Или знала?! Увидела ли она в тот день, о котором писал отчим, в глазах Валентина нечто, показавшееся ей настолько зловещим, что она решила как можно скорее отослать сына из дома? Григорий вспоминал унизительные шутки отчима по поводу «гомиков» и то, как наспех ел в своей маленькой комнатке. Тогда юноше порой казалось, что он безнадежно, непоправимо болен. Как там написал отчим? «Гомосексуализм – это заразная болезнь»? Но это не так. Вся последующая жизнь Григория доказала, что это не так. Каждый шаг Григория, каждый поворот его судьбы неведомо для него самого вели к встрече с Иваном. К любви.
Иван читал, присев на кровать. Закончив, он глубоко вздохнул и задал Григорию очень простой и очень важный вопрос:
- Ты его прощаешь?
Григорий на миг закрыл глаза.
-Да, - ответил он. – Прощаю. Я помню тот день, когда мы запускали змея. Отчим тогда был хорош собой. . Высокий, красивый, с копной волос. И, знаешь, я гордился втайне, что и у меня появился отец. Мы вечером того дня пили чай у самовара. Настоящего самовара с гирляндой баранок. Да, и мать любила отчима. Помню, как искренне она смеялась, как смотрела на него. Мы были счастливы. Он мной не занимался особо, да мне и не нужно было, чтобы отчим со мной возился. Я знал, что он – не мой родной отец. Но когда он меня невзлюбил, я очутился на краю пропасти. Его ненависть к гомосексуалам меня разрушала. Понимаешь, я решил, что вызываю у него брезгливость. Мне казалось, он чувствовал, кто я , и инстинктивно избегал меня. Сейчас же я его прощаю, конечно. Прощаю.
- Вот ты его и проводил, - задумчиво сказал Иван. Он помедлил, затем решительно дотронулся до руки Григория.– Здесь бар должен быть, на первом этаже. Надо бы хоть по стопке водки выпить. Пусть идет с миром.
Маленький мальчик с кудрявой головенкой взял за руку старика, стоявшего в начале теплой, пыльной летней дороги, уходившей прямо в Солнце, в свет. Тот осторожно сомкнул узловатые пальцы на детской ручке, и они медленно, не торопясь, побрели вперед, в неизвестность. Старику не было ни страшно, ни грустно, потому что он знал, что прощен. В высоком до звона небе парил воздушный змей, пахло нагретой листвой, мир был ярок и прекрасен, а, значит, и небытие не могло испугать. Смерть означала отдых и покой. Они шли, и старик становился все моложе и моложе, распрямляясь и превращаясь в статного красавца. В какой-то миг мальчик освободил свою ручку и остановился, а молодой мужчина продолжил путь один. Свет становился ярче, ярче, еще ярче, став, наконец, ослепительным сиянием, в котором и растворился Валентин, отчим Григория.
… Они выехали из Твери рано и в дороге все больше молчали. Шел легкий, невесомый снег, но трасса была морозно-сухой, и мощная машина уверенно мчалась к Москве. Вечером они выпили водки, не чокаясь, посидели в баре, затем поднялись в номер и до полуночи смотрели телевизор. Спал Григорий без снов.
Утром его охватила ясная, глубокая уверенность, что они с Иваном больше не должны разлучаться. Пора свиданий завершилось. Нужно было собраться с душевными силами и начать разговор. Григорий знал, что, даже если Иван ответит отказом, они продолжат разговор позже. Страх услышать «нет» исчез. За любовь нужно было сражаться, и Григорий был готов к бою.
Уже совсем недалеко от МКАД, в первой серьезной пробке, он решился.
-Переезжай ко мне, - тихо сказал он Ивану. – Пусть у нас будет общий дом. Я люблю тебя и хочу прожить с тобой всю жизнь.
Машины впереди них не двигались, замерев в бесконечном ожидании. Григорий повернулся к Ивану. Время остановилось. Григорий ждал ответа вечность, или минуту, или один удар сердца – как долго молчал Иван, собираясь с мыслями, сказать было невозможно.
Не отводя глаз от Ивана, Григорий нащупал замысловатую пуговицу на своей дорогой итальянской куртке. Она была пришита на славу, и все же ему хватило одного рывка, чтобы оторвать ее. «Если хочешь подарить мне что-нибудь, подари пуговицу». Григорий осторожно вложил пуговицу в пальцы Ивана.
Тот глубоко вздохнул, покачал головой, глядя на блестящий предмет, вложенный ему в руку, не спрашивая, что все это значило, а потом улыбнулся чудесной, очень молодой, юной улыбкой, которая могла принадлежать только человеку, верящему в себя и в жизнь, и ответил:
- Да, пусть у нас будет общий дом. Мы немного приглядим за Павлушей, не бросать же его, и я буду оплачивать хотя бы часть наших расходов. Но я согласен. Я люблю тебя, - и он, искренне рассмеявшись, оторвал пуговицу на вороте своей куртки, едва державшуюся на нитке, и протянул ее Григорию. - Так они скрепили вечную любовь.
В этот миг поток машин пришел в движение, самые нетерпеливые водители принялись сигналить, подбадривая и самих себя, и других, и Григорий с Иваном поехали вперед, в будущее.
.

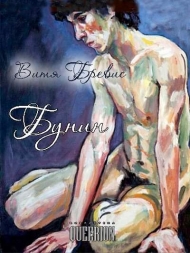
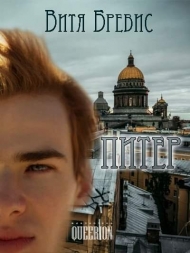


5 комментариев