Сергей Вервольф
Бешеный
Рассказ о любви двух волков-оборотней.
Часть вторая
I
…Сегодня новолуние. А значит — отдых. Вчера мы всю ночь жгли костер, сидели вокруг него кружком и жмурились от живого тепла. Жарили на веточках белый хлеб — редкостное в нашей общине лакомство, — разговаривали о том о сем… Батон был свежий, не со свалки. Его тиснули в булочной Пегий и Гном, когда днем ходили в город. В новолуние прогулки к людям все себе позволяют. Кроме меня. Мне людьми интересоваться не к лицу, да и жизнью рисковать не по статусу. Шутка ли, всего полгода прошло, а я уже — Вожак! И в былые-то времена я был посильнее всех в стае, а потом, летом, когда в первый раз крови нахлебался, получил главное право — вызвать на бой самого Старого Вожака. Мне тогда всё по фигу было — жить или умирать. Поэтому, наверное, и победил.
Это теперь вспомнить жутко: ночь, полная луна, громадная поляна и мы — глаза в глаза, будто одни на целом свете. Но оба при этом знаем, что там, в темноте чащи, ровными столбиками сидят наши и ждут: кто кого. И от проигравшего только клочки пойдут по закоулочкам! А когда я Старого Вожака повалил, впившись зубами в его уже дряблое горло, они налетели, и через мгновение всё было кончено… До сих пор перед глазами маячит ставшее вдруг очень маленьким его истоптанное и истерзанное тельце со свалявшейся от крови шерстью.
Помню, тогда я не выдержал и завыл от накатившей черной тоски, но в стае это восприняли как боевой клич победителя и недружно, подобострастно дрожащими голосами, поддержали меня. Да, теперь я — Вожак… Значит, о моих мыслях и чувствах другим лучше не знать.
И я бегу от себя, от душащих по ночам воспоминаний. Поэтому коплю напряжение, покуда могу сдерживаться, а потом от какого-нибудь пустяка вмиг зверею и срываюсь так, что сам себя боюсь. И тогда уже крушу всё, что попадается на пути. Чем дальше, тем хуже, потому что застарелая боль — она самая страшная. Да еще заедают мелочи. Пегий, например, — из молодых, да ранний. Не успел еще толком в шкуру первый раз влезть, а уж к утру вернулся с окровавленной мордой. На меня поглядывает с вызовом. Того и гляди, скоро стоять мне с ним на Плешивой поляне: глаза в глаза. Надо бы его убрать при случае, чтобы не высовывался. Охотники всегда найдутся — за кусок того же ворованного батона. Так оно обычно и бывает. Это только мне так повезло, что до поры до времени никто меня всерьез не воспринимал и в расчет не брал, иначе однажды утречком просто к логову не вернулся бы. Плакать никто не стал бы. Да и сейчас, если возьму вдруг, да сдохну, ни одна тварь на целом свете по мне не заплачет… Нет, один человечек всё-таки заплачет. И то, если узнает.
II
Я сходил-таки в город. Тайком, как квартирная крыса, прячась от чужих и от своих. Далеко не пошел, просто постоял на шоссе, понюхал воздух, жадно раздувая ноздри. И вдруг пахнуло в воздухе этом чем-то таким родным… Или мне уже мерещится невесть что? В общем, вернулся я почти „двинутый". Никто моей отлучки вроде не заметил, а к утру снег выпал и укрыл мой грех надежно и прочно. Скорее бы уж полнолуние, иначе я просто сойду с ума!
III
Утром снег превратился в слякоть и исчез, а вместе с ним исчезли и надежды на то, что мой поход в город останется незамеченным. Один-таки меня засек. И кто — этот выскочка Пегий! И не засек, а выследил — ведь он с самого начала под меня копал, скотина! А сегодня, когда все уже проснулись, началась обыденная жизнь, и я успокоился, расслабился, будто не было вовсе моего ночного похождения, Пегий, как бы между прочим, бросил мне вызов на поединок. Что ж, нашим — развлечение, а для меня впредь наука — врагов надо распознавать и душить, пока они еще маленькие! То, что я его побью, не сомневаюсь ни минуты: мне ли бояться скороспелого противника? Но повозиться всё же придется. Проворонил я его, конечно, классически. И хорошо, что он поторопился с вызовом, — значит, успею собраться с мыслями и поднакопить сил. До полнолуния время еще есть.
В раздумьях я ушел далеко в лес, в одному мне ведомое место, сел на вывороченную с корнем березу и просидел там до тех пор, пока не прорезался в небе острый зубчик растущего месяца. Тогда я встал и, как побитый пес, поплелся обратно к логову.
IV
Там уже дымил костер, а над ним в обгоревшем ведре булькало наше немудреное варево. Все сидели и ждали меня, соблюдая неписаный закон: не притрагиваться к еде раньше Вожака. Меня это даже растрогало — ведь мне брошен вызов, и теперь я наравне со всеми, пока не докажу свои исключительные права в честном поединке.
Но вдруг Пегий поднялся и, нагло ухмыльнувшись, шагнул к костру. Я внутренне сжался, ожидая подвоха, и не ошибся. Пегий уверенно зачерпнул из ведра своей плошкой и поднес ее ко рту. Он покрутил плошку в руках, подул, остужая похлебку, потом, глядя прямо мне в глаза, принялся жрать через край. И тут я понял, что ни за что не сдержусь, потому как ничего, кроме этой плошки, уже не видел. Бешенство захлестнуло меня, и я изо всех сил вмазал прямо по этой самой плошке кулаком.
Противно обожгло ободранные костяшки пальцев, завопил, схватившись за обваренное лицо, Пегий… И вмиг несколько пар рук, гася новый порыв ярости, уверенно обхватили мои локти и плечи и пригнули к земле — мол, сейчас не время, а вот потерпи до полнолуния, тогда и покажешь, на что способен.
Тут только до меня дошло, какой промах я допустил, когда при всех скатился до уровня кухонной потасовки, поддавшись на эту дешевую провокацию. Что ж, грош мне цена, коли не умею сдерживать в себе зверя! И теперь-то мы с Пегим уж точно на равных…
Руки, гнувшие меня к земле, разжались так же неожиданно, как и минуту назад схватили. Все снова разошлись по своим местам. А Гном, исполняющий сегодня обязанности дежурного по кухне, уже не дожидаясь моего одобрения, деловито принялся обносить всех похлебкой. Вокруг костра воцарилось напряженное молчание, только изредка кто-нибудь ойкал и коротко матерился, если проливал горячее варево себе на руки. Словом, жизнь продолжалась, и всем было глубоко наплевать на меня, Пегого и наше противоборство. Звери — звери и есть!
Не знаю, почему, но мне вдруг стало чертовски жаль себя. И чувство горькой обиды переполнило грудь, сдавив горло так, что слезы уже готовы были выступить на глазах. Но у меня хватило воли внешне остаться совершенно бесстрастным. Я медленно хлебал из плошки эту жуткую бурду, один вид которой у нормального человека вызывал бы приступ тошноты, глядел прямо перед собой и ничего не видел…
V
Сегодня утром опять выпал снег. На этот раз — здоровый: белый и хрустящий. Этот не растает. Не прошло и двух недель, а зима уже вступила в свои права. Я, конечно, не отказал себе в удовольствии побродить по притихшему лесу, похрустеть чистым сухим снежком и половить языком редкие снежинки, которые так красиво соскальзывают с припорошенных еловых лап и, степенно кружась, летят к земле, похожие на крохотные бриллианты в лучах яркого солнца. Таким счастливым я не был, наверное, еще никогда. Все мои проблемы и тревоги казались какими-то далекими и ненастоящими, будто вся моя жизнь только и состояла, что из этой волшебной прогулки по зимнему лесу.
И вдруг до боли знакомый запах ударил мне в чувствительные ноздри. Еще несколько шагов меня пронесло по инерции, и я остановился, как вкопанный. Ошибки быть не могло: этот запах принадлежал единственному человеку во всем мире. Янек! Одна лишь мысль о том, что он может быть здесь, бросила меня в холодный пот и отрезвила окончательно. Почему, а главное, зачем он бродит накануне полнолуния окольными путями вокруг логова? Не мог же он так быстро забыть, как это опасно… Нет, безусловно, не забыл, а наверняка что-то замышляет. Может, хочет попытаться помочь мне? Но он-то как раз ничего поделать уже не сможет, а вот стать легкой добычей стаи голодных оборотней шанс более чем велик…
— Бешеный!!!
Этот крик оглушил меня, неожиданно раздавшись из-за спины. Сейчас я оглянусь и увижу Янека.
Но не обернулся, а наоборот, что есть духу бросился напролом сквозь кусты, облепленные снегом. И помчался, не разбирая дороги, прочь оттуда, где мелькала между стволов синяя „аляска" и, срываясь от бега, звал мальчишеский голосок:
— Бешеный! Стой! Это же я!..
VI
Не помню, сколько я пробежал — просто летел вперед, покуда несли ноги, покуда хватало дыхания. Точнее, покуда нога не зацепилась за торчащий из земли корень. Я упал ничком и уже не смог подняться.
И это было последней каплей: слезы брызнули из глаз, заливая лицо, и я что было сил страшно заорал на весь лес:
— Уходи-и-и-и-и!
Деревья кружились перед глазами, небо рушилось на голову, звенел, нарастая, мой крик и становился жутким воем, от которого стыла кровь в жилах. Только равнодушной оставалась к нему висевшая над лесом мертвенно-бледная полная луна.
VII
„Бум! Бум! Бум!" — так стучит в ушах разгоряченная кровь. Будто большой барабан гудит в голове. Я стою, укрываясь в неровной сосновой тени, и жду. Скоро, совсем скоро, по общему сигналу я выскочу в поток серебряного света на Плешивую поляну, самую большую поляну нашего леса. Деревья и другая растительность не жалуют землю, обильно политую тухлой кровью оборотней, поэтому ни с какой другой ее никогда не спутаешь. Даже сейчас, укрытая ровным слоем девственно белого снега, она напоминает военный плац. Да так оно отчасти и есть, вот только битва мне предстоит далеко не шуточная.
Боже мой! Пускай Ты отвернулся от меня, но услышь пропащего оборотня и помоги выжить! Ведь сейчас на карту поставлена не только моя грошовая судьба, но и жизнь абсолютно невинного существа. Янек, золотой мой человечек, зачем ты вспомнил обо мне?!!
„Бум! Бум!" — бухает невидимый барабан и, словно пограничные столбы, застыли по краям поляны темные силуэты.
И Пегий уже собирает все свои силы в один трепещущий комок, чтобы ринуться на меня, сокрушая плоть, и напиться моей черной крови. Но пусть не надеется на быструю и легкую победу. Я буду драться до конца, до последнего дрожания жизни!
Напряжение достигло предела, и тогда я понял — пора! И, как невесомый призрак, ступил в круг лунного света. Иди сюда, Пегий! Рискни, и в награду ты упьешься порочной кровью Бешеного! И Пегий тут же появился на Плешивой поляне, ощерившийся, со вздыбленной холкой. И мы встали друг против друга, глаза в глаза.
Первым, конечно, не выдержал он — и прыгнул. Я увернулся почти лениво. Но Пегий не оценил моего благородного жеста. Он бросался еще и еще, явно пытаясь ошарашить меня своим натиском. Я уклонялся от его атак, копя силы к концу поединка и отодвигаясь ровно настолько, чтобы в нескольких сантиметрах от моего горла хрустнули, сжимая пустоту, жадные челюсти. Я дразнил его. Пусть распалится и потеряет бдительность, и вот тогда уж наступит мой черед!
В конце концов, Пегому надоело клацать зубами в воздухе, и он изменил тактику боя: вдруг резко сиганул в сторону и попытался вцепиться в мою холку. Но я вырвался, хоть и оставил у него в зубах порядочный клок шерсти. Какой дешевый трюк! Противник задумал взять меня слишком уж просто, и это прибавило мне злости, а выскочке Пегому стоило его паршивой жизни. Потому что я почувствовал: если не прикончу его сейчас же и не покажу другим, кто есть кто, то сам себя уважать никогда уже не буду. И я взвился вверх в безумном прыжке, в мгновение ока оказавшись у Пегого за спиной, и черной молнией вонзился в его шею.
Он жалко забарахтался в белом снегу, пачкая его своей гнилой кровью и захлебываясь в ней. Он еще пытался как-то извернуться, выскользнуть из моих безжалостных челюстей, которые упорно и страшно кромсали его изодранную шею. Но вскоре смирился со своей участью, еще несколько раз дернулся и затих.
И тотчас сидевшие до сих пор столбиками наши выскочили на поляну вершить свой кровавый пир! Я стоял и тупо смотрел на то, как каждый из них торопится урвать себе кусок разодранного трупа. Не отставал от других и Гном, который, урча в упоении, пожирал окровавленные кишки своего недавнего друга и покровителя, доставшиеся ему при дележке. Смрадный запах смерти закружился в воздухе, и я почувствовал такую беспросветную тоску, будто это мое бедное тело делили сейчас на Плешивой поляне. И снова, как и полгода назад, завыл от полной безысходности, и опять стая подхватила мой стон, приняв его за клич торжества.
Немного саднило пораненный загривок и мутило от соленого привкуса крови во рту. Кивнув остальным, чтобы не ходили за мной, я ринулся прочь от этого страшного места, во тьму, в успокоительное одиночество. По дороге схватил пастью чистого снега, пожевал. Он подтаял и капал из пасти на мой след кровавыми кляксами. А я всё шел и шел, подталкиваемый своими безрадостными мыслями, и сам не знал, зачем иду и куда.
VIII
Сухой и колючий снег почти не тает от моих лап. Куда ни кинь взгляд — белый ковер, проткнутый черными стволами деревьев. И ни звука, ни малейшего шевеления. Только мои шаги нарушают тихим шелестом всеобщее спокойствие. Один в пустом лесу.
Полная луна склонила свое одутловатое лицо над землей и с безразличием разглядывает ее, не отличая горя от радости. Один в пустом мире.
И звезды надо мной, полчища звезд. Каждая точка — безумно далекий и чужой мир. И я один — в пустой Вселенной.
Я слишком увлекся грустными мыслями, поэтому опять опоздал: почуял знакомый запах, когда бежать было уже поздно, когда, оглядевшись, я различил маленькую темную фигурку, почти слившуюся со стволом громадной сосны. Он стоял там, мой Янек, замерзший до синевы, поникший и жалкий. Он потянулся ко мне и охрипшим голосом просипел:
— Бешеный!
Я присел от его порыва и готов был уже кинуться прочь, но словно окаменел. И тут увидел, что его глаза заблестели от набежавших бессильных слез, он вдруг подался вперед, и я скорее почувствовал, чем услышал:
— Бешеный!.. Пожалуйста…
И я понял, что ни за что на свете не брошу его одного в этом промерзшем лесу, и — будь что будет! Я подошел к нему и увидел, как он воспрянул духом от неожиданной своей победы, как ожили его глаза на полуобмороженном лице. Он протянул навстречу мне дрожащую голую ладонь и сказал:
— Укуси меня, Бешеный! Пожалуйста!
И я услышал, как нетерпеливо заколотилось в груди его маленькое сердце.




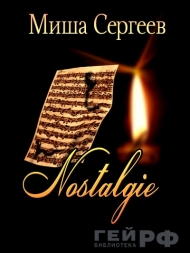
1 комментарий