Евгений Берштейн
Англичанин в русской бане
Почему Штруп – англичанин?
Начнем с общего наблюдения относительно статуса английской культуры среди русских модернистов начала века. Влиятельный критик, специалист по европейской литературе (и в будущем близкая приятельница Кузмина) Зинаида Венгерова провозгласила в 1905 году: «Эстетическое возрождение, наблюдаемое в Европе за последние десять-пятнадцать лет, имеет своим источником Англию, родину самого утонченного искусства и наиболее возвышенной поэзии нашего века»[9]. Ассоциация Англии с Возрождением отражена и в дневнике Кузмина: он фиксирует чтение книги на эту тему: «В библиотеке читал "Итальянское Возрождв Англии”, именно то, что оба меня окрыляет» (стоит обратить внимание на значимое последнее слово в этой записи: «Крылья» еще пишутся)[10]. Заметим, что в залитом солнцем финале кузминского романа Ваня с англичанином Штрупом отправляются путешествовать по Италии.
Оскар Уайльд, наиболее известный представитель английского эстетизма и автор лекции «Ренессанс английского искусства», был известен не только Кузмину, но и Григорию Муравьеву – в течение некоторого времени любовнику Кузмина, несмотря на то что у восемнадцатилетнего Муравьева не было никакого образования (по всей видимости, он служил банщиком, и Кузмин определенно оплачивал его визиты). Когда в сентябре 1905 года Кузмин сбрил свою окладистую русскую бороду и начал носить европейское платье, Муравьев немедленно заметил: «Вы обрились, чтобы походить на того англичанина, которого сослали?» Кузмин передает эти слова в дневнике и прибавляет: «т.е. Уайльда»[11]. Ирония пересказанного Кузминым разговора заключается, конечно, в том, что он связывает самого Кузмина как с Уайльдом, так и с вымышленным англичанином Штрупом – содержавшим банщика. Годом позже, после публикации «Крыльев», представление о Кузмине как «русском Уайльде» станет общим местом. Однако для самого Кузмина эта параллель возымела – довольно безрадостную – актуальность значительно раньше.
Зададимся вопросом о том, можно ли считать «англичанина» Штрупа – фигурой уайльдианской? Вряд ли, и вот почему. Процитированное выше упоминание Уайльда в дневнике Кузмина весьма точно отражает репутацию английского поэта и драматурга в России, где его широкая известность началась с уголовной хроники: в 1895 году российская пресса подробно освещала суды над Уайльдом, обвиненным в «gross indecency» («грубой непристойности» – эвфемизм гомосексуализма). В России информация о позоре и каторге Уайльда предшествовала знакомству с его творчеством. Скандал же, вызванный уголовным делом Уайльда, был чрезвычайно громок (одна лишь популярная петербургская газета «Новое время» поместила восемнадцать репортажей из зала суда)[12]. В российской журналистике возникли даже расхожие выражения – «преступление Оскара Уайльда» или «уайльдовские забавы», – иносказательно обозначавшие гомосексуальные отношения. Русские символисты, начиная с Константина Бальмонта, узрели в судьбе Уайльда трагическую поэзию и провозгласили его мучеником, почти что святым (в дневнике Кузмин передает свой спор с Вячеславом Ивановым, ставившим Уайльда «рядом с Христом»)[13]. Однако мифология мистического страдания, выросшая вокруг Уайльда и окутавшая впоследствии чуть ли не весь феномен однополой любви, противоречила идеологической позиции «Крыльев», да и вообще была Кузмину чужда. В своем романе Кузмин не просто подводит любовную интригу к счастливой развязке – он предлагает сценарий «пламеннейшей», экстатической жизни. Страдалец и каторжник Уайльд никак не вписывался в кузминский сценарий беспредельного чувственного и эстетического блаженства.
Художественные теории Уайльда во многом опирались на работы критика и историка искусства Уолтера Патера. По предположению английской исследовательницы Рейчел Полонски, герой «Крыльев» «Штруп – это патерианская фигура, перенесенный на русскую почву оксфордский наставник, каким его создал эллинизм викторианской эпохи»[14]. Это плодотворная мысль, хотя и сформулированная с излишней прямолинейностью. Действительно, программные высказывания петербургских эстетов из кружка Штрупа чрезвычайно схожи с рядом положений из прославленной книги Патерa «Ренессанс» (1873), особенно из «Заключения» к этой книге – протодекадентского манифеста, вызывавшего восхищение Уайльда. В своей монографии Патер призывает к новому Ренессансу, и с ним – к воссозданию эллинской культуры, отмеченной «заботой о физической красоте, поклонением телу, разрушением ограничений, наложенных религиозной системой средних веков на сердце и воображение»[15]. Патер намекал, что его эллинистический идеал включает в себя и гомоэротизм: так, в качестве образцового примера воплощения эллинского духа Патер указывает на немецкого историка искусств Иоганна Иоахима Винкельмана: «…тот факт, что его связь с эллинизмом была не чисто интеллектуальной, но более тонкие нити темперамента были вплетены в нее, доказывается его романтической, пылкой дружбой с юношами. Он знал, по его словам, многих юношей прекраснее, чем архангел Гуидо»[16]. Идеал Патера – в опытном, чувственном переживании и познании мира:
Конечная цель – не плод опыта, а сам опыт. Каждому из нас уделено определенное число биений пульса разнообразной, драматичной жизни Всегда гореть этим сильным, ярким как самоцвет пламенем, всегда сохранять в себе этот экстаз – вот успех в жизни Когда все плавится у нас под ногами, отчего бы не ухватиться за любую утонченную страсть, за любой вклад в знания, раздвигающий, кажется, горизонт и тем освобождающий на мгновение дух, за любое возбуждение ощущений, за странные краски, странные цвета, любопытные запахи, произведение рук художника, лицо друга Мы все condamnés, как говорит Виктор Гюго: мы все приговорены к смертной казни, но с отсрочкой на неопределенное время нам дан промежуток времени, и затем наше место пустеет Наш единственный шанс состоит в том, чтобы этот интервал расширить, чтобы в отведенное время вместить как можно больше биений пульса[17].
Программы Патера и Кузмина пересекаются в трех идеологических составляющих, призывая к (1) чувственной интенсификации опыта, воспроизводящего (2) эллинский опыт, в том числе (3) гомосексуальный. И по общему духу, и в деталях эллинистическая утопия Кузмина напоминает теории оксфордского эллинизма: ср. любопытную параллель в эпиграфе к «Ренессансу» Патера, взятом из Псалмов царя Давида: «Yet shall ye be as the wings of the dove» (68:13), в православном варианте: «Вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом» (67:14). Конечно, у Кузмина образ крыльев явно отсылает к рассуждению о любви в платоновском «Федре», но невозможно исключить и дополнительную библейскую аллюзию.
В России первого десятилетия ХХ века работы Патера были известны мало (хотя Зинаида Венгерова начала знакомить с ним русскую публику уже в 1896 году)[18]. Тем не менее эстетические труды Патера легли в основание европейского эстетизма и декаданса (достаточно вспомнить, что в «Заключении» Патер предложил одну из канонических формул искусства для искусства: «the love of art for its own sake»)[19]. Помимо непосредственного знакомства с трудами Патера (доказательств которого у нас нет), нетрудно представить себе ряд окольных путей, которыми этот набор идей мог достичь Кузмина. Один из маршрутов мог пролегать через творчество Уайльда: в «Портрете Дориана Грея» лорд Генри перефразирует патеровское «Заключение» близко к тексту оригинала. Впрочем, для нас не так уж важен точный исторический маршрут патеровского «влияния» на Кузмина (если это и вправду «влияние»). Важнее другое. В своих трудах оксфордские эллинисты Патер, Джон Аддингтон Саймондс, а также зависимый от них теоретически Уайльд предлагали читателю эстетические теории с достаточно прозрачным гомосексуальным подтекстом. Как считает Дидье Эрибон, «Патер имплицитно призывал к созданию специфически гомосексуальной субкультуры, целью которой стало бы оживление идеалов Древней Греции и Ренессанса»[20]. Я полагаю, что именно эта имплицитная тенденция оксфордской эстетической школы была Кузминым раскрыта и беллетризирована в английской теме «Крыльев».
Важно иметь в виду, что и Патер, и Саймондс – столпы эстетической школы – умерли до трагического крушения Уайльда. Суды над Уайльдом и сопутствовавшая им всеевропейская газетная шумиха радикально изменили характер европейских дискуссий о гомосексуальности. Эстетическая защита однополой любви, предпринятая Уайльдом в зале суда, потерпела катастрофическое поражение перед лицом моральных и юридических обвинений[21]. В последующие годы и десятилетия научно-медицинский и юридический дискурсы заняли ведущее положение в арсенале защитников однополой любви (в том числе и среди участников возникшего вскоре после осуждения Уайльда движения за права гомосексуалистов). В «Крыльях» Кузмин превратил абстрактные эстетические конструкции, родственные оксфордской школе, в своего рода социальную утопию, и это, несомненно, был радикальный шаг. Однако в Европе эстетически обоснованная защита гомосексуальности уже отживала свой век. В 1906 году эстетическая апология однополой любви могла показаться архаичной и даже наивной.
Истинная оригинальность Кузмина заключалась в трансплантации западной эстетической идеологии на почву социальной утопии – жанра, хорошо знакомого русскому читателю. В соответствии с этой социально-утопической традицией Кузмин вводит в повествование сектантского типа группу сторонников нового идеала и, более того, натуралистически описывает петербургский гомосексуальный быт. Сцена, в которой банщик Федор рассказывает о «баловстве» с клиентами («…у нас положение: кто на дверях занавеску задернул, – значит, баловаться будут» и т. д.), занимает в романе меньше страницы, но именно она шокировала многих читателей и бесконечно обсуждалась и пародировалась критиками[22].
Среди рассерженных рецензентов был и Василий Розанов, которого особенно удручила жанрово-стилистическая (чтобы не сказать «дискурсивная») непоследовательность «Крыльев» – смесь античного пласта с банно-бытовым, высокого с низким: «Адриана и Антиноя вероятно стошнило бы от омерзительного банщика Бориса и банных приключений: неужели древние это любили?»[23] В частности, Розанов был оскорблен одной обонятельной деталью – «прелым запахом кислых щей», который доносился до Вани Смурова во время подслушанного разговора о банном баловстве. В своей рецензии Розанов уничижительно сравнил «Крылья» с «Петербургскими трущобами» Крестовского и сострил, что Кузмину следовало назвать его произведение «"Около кислых щей” или даже проще: "Кислые щи”»[24]. Розанов предпочел не заметить, что оттолкнувшая его сцена имеет эстетическую заданность: ведь и по Патеру, «любопытные запахи» обостряют ощущения и тем самым способствуют полноте и разнообразию жизни. Следовательно, острый запах супа вовсе не опошляет рассказа Федора. Сходным образом – и к такому выводу подводит Ваню Смурова Кузмин – пряная связь с Федором не опошляет Штрупа.



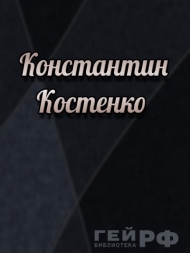

1 комментарий