Евгений Берштейн
Англичанин в русской бане
Банные приключения Василия Васильевича Розанова
В 1907 году Розанов обвинил кузминское описание банной коммерции в ненадлежащем натурализме, увидев в смешении бытописательства с эротической утопией дурной вкус[25]. Тем интереснее рассмотреть позднейшую запись Розанова о его собственном походе июльским днем 1916 года в баню на Бассейной улице, когда-то любимую Кузминым. Свой банный репортаж Розанов включил в книгу «Последние листья. 1916 год», при жизни автора не издававшуюся[26].
В «листе» от 16 июля Розанов повествует о том, как в «"отделеньице” в 90 копеек» его мыл семнадцатилетний банщик Иван, отличавшийся, по словам писателя, необычайной мужественностью и красотой[27]. Розанов в мельчайших подробностях описывает интимные аспекты помывки: массируя писателя, банщик неумышленно дотрагивался своим детородным органом до его колен, руки, даже «почти касался лица», и от этих прикосновений юноша сам же был возбужден «несильным, слабым возбуждением»[28]. А завороженному Розанову пришли на ум поэтические строки («И снова вспомнил "Песнь Песней”: "О, мой Возлюбленный!”»), а также мысли о семи девах, которых мог бы осчастливить этот прекрасный юноша[29]. Помимо сильного, стройного тела, Розанов отметил в банщике половой член «такой исключительной красоты и величины, что, признаюсь, и сам взволновался. Он был утроенно велик против обыкновенного, это было статно и невыразимо выразительно»[30]. Перемежая порнографическое описание метафизической рефлексией, Розанов провозглашает мужское достоинство Ивана предметом не только «исключительной красоты», но и необычайной ценности. Его посещает футурологическая идея: в будущем таких редкостных юношей будут отбирать и использовать в селекционных целях: «из него изойдет целый табунчик новых красивейших лошадок»[31].
Розановская запись своей откровенностью далеко превосходит банную сцену в «Крыльях» Кузмина, которую Розанов раскритиковал десятилетием раньше. К тому же в миниатюре из «Последних листьев» стилистического единства даже меньше, чем в банном эпизоде «Крыльев»: Розанов с легкостью смешивает порнографический, этнографический, футурологический и поэтический дискурсы. В записи Розанова трудно не увидеть запоздалый ответ Кузмину, первому поместившему утопические идеи в контекст гомоэротических практик русской бани. Своим лирическим экскурсом в баню Розанов, несомненно, вторгся на художественную территорию Кузмина и тем самым, как мне кажется, косвенно признал ценность кузминского литературного эксперимента.
В любострастном розановском описании статного банщика присутствует, однако, еще один чрезвычайно важный идеологический мотив. «Я с ним немного говорил о войне, – повествует Розанов. – Один брат его уже взят, а в августе и его возьмут. "Ты трусишь?” – я спросил его. – "Нет”, – сказал он коротко»[32]. Банщик Иван – не просто образцовый молодой мужчина, а завтрашний солдат, которого вот-вот призовут на германскую войну, где он наверняка погибнет. Волна любострастия, пронзившая писателя, соотносится с его гендернoй теорией патриотизма: еще осенью 1914 года, в самом начале войны, Розанов описывал сходный приступ влюбленного вожделения, охвативший его как-то при виде двигавшегося по городской улице конногвардейского полка (сцена эта вошла в книгу Розанова «Война 1914 года и русское возрождение»):
Произошло странное явление: преувеличенная мужественность того, что было передо мной, как бы изменила структуру моей организации и отбросила, опрокинула эту организацию – в женскую.
Я почувствовал необыкновенную нежность, истому и сонливость во всем существе... Сердце упало во мне – любовью... Мне хотелось бы, чтобы они были еще огромнее, чтобы их было еще больше... Этот колосс физиологии, колосс жизни и, должно быть, источник жизни вызвал во мне чисто женственное ощущение безвольности, покорности, и ненасытного желания «побыть вблизи», видеть, не спускать глаза... Определенно – это было начало влюбления девушки.
Суть армии, что она всех нас превращает в женщин, слабых; трепещущих, обнимающих воздух…
Одних – более, других – менее; но сколько-нибудь – каждого…[33]
Согласно розановской гендерной модели, всякий субъект двупол и соотношение мужского и женского в его/ее душе (а возможно, и в теле) колеблется. Как видно из процитированного выше отрывка, в состоянии патриотического воодушевления женское начало берет верх над мужским[34]. Банная сцена развивает и иллюстрирует эту модель.
Розановский патриотизм, укорененный в женственном эротическом переживании, вызвал немедленный отпор со стороны философа Николая Бердяева[35]. Реагируя на военную публицистику Розанова, Бердяев предложил цепкую характеристику одной черты розановского характера – «вечно бабье». По Бердяеву, низменная женственность Розанова лишает его автономной субъектности и привязывает к инстинктивно-биологическому, природному и пассивному началу в ущерб началу интеллектуальному, личностному и активному. Бердяев обвинил Розанова в том, что того всегда влекла и возбуждала сила, власть – неважно, будь то сила государства, революции, декаданса, политической реакции или войны. Розановская непоследовательность во взглядах – плод сменяющихся влюбленностей его стихийно-женственной души, вожделеющей всякую силу. С этой своей вечно бабьей душой Розанов, согласно Бердяеву, – «гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии». Бердяев заключает:
«Розановское», бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще очень сильно в русской народной стихии. «Розановщина» губит Россию, тянет ее вниз, засасывает, и освобождение от нее есть спасение для России. По крылатому слову Розанова, «русская душа испугана грехом», и я бы прибавил, что она им ушиблена и придавлена. Этот первородный испуг мешает мужественно творить жизнь [36].
В статье «О вечно бабьем в русской душе», как и в других своих работах, Бердяев принимает и использует половую философию Отто Вейнингера, почитателем которого он являлся[37]. Согласно взглядам Вейнингера, женское начало насквозь пронизано сексуальностью, оно биологично, бессознательно и в своей хищной пассивности чуждо творчеству и духовности. Прилагая вейнингеровскую концепцию к анализу патриотического неистовства, охватившего и Розанова, и все российское общество, Бердяев характеризует это явление как женское, то есть внелогическое, сугубо сексуальное в своей основе и, значит, чуждое свободе. Бердяев – «философ свободы» – «бабье и рабье» подвергает осуждению.
Есть все основания полагать, что банный эпизод из «Последних листьев» полемически направлен против Бердяева. Во-первых, запись Розанова развивает те самые положения «Войны 1914 года», которые особенно возмутили Бердяева. Во-вторых, в розановской рукописи банная миниатюра следует за записью, специально посвященной Бердяеву (и датированной предшествующим днем, 16 июля 1916 года). В ней Розанов издевательски именует Бердяева «французом из Алжира», который, ясное дело, «не на месте» среди русских и «всегда раздражен, не удовлетворен и сердится»[38]. Поставленные рядом друг с другом, два этих «листа» связывают розановское влечение к мощной солдатской мужественности банщика Ивана с ироническим презрением к неукорененности Бердяева в русской культуре. Таким образом кузминская тема банного гомоэротизма получает у Розанова неожиданно богатую полемическую разработку в контексте принципиального философско-публицистического спора военного времени.



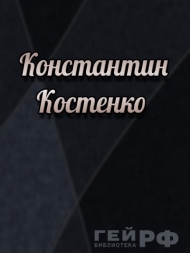

1 комментарий