Евгений Берштейн
Англичанин в русской бане
Кузмин, Розанов и поэтика русской гей-литературы
Современники воспринимали тему банной гомосексуальной коммерции как кузминскую, но – поразительный факт! – наиболее подробное и щедрое физиологическими деталями описание эротического контакта между банщиком и его клиентом содержится не в «Крыльях» и даже не в трудах специалистов-медиков (прекрасно осведомленных о широчайшем распространении мужской проституции в банях)[39], а в записях многодетного и беззаветно преданного своей подруге Василия Васильевича Розанова – обладателя, пожалуй, наиболее «натурального» лирического голоса в русской литературе своего времени и неутомимого защитника прокреативной гетеросексуальности. Кузмин и Розанов практически одновременно открыли в русской прозе тему однополого влечения: первое издание главного труда Розанова на эту тему – книги «Люди лунного света: метафизика христианства» – вышло в 1911 году, через пять лет после «Крыльев». Полезно сравнить развитие этой темы у Кузмина и Розанова в историко-литературной перспективе.
Мне уже приходилось отмечать, что кузминские «Крылья» и публикации Розанова о вопросах пола (особенно выдержанные в неопределенном жанре «розановщины» – экзистенциальных фрагментов, «опавших листьев») соотносятся с двумя парадигматическими способами литературного осмысления «голубой» тематики[40]. Жанр «Крыльев» предвосхищал «coming-out novel», гомосексуальную версию «романа воспитания» (Bildungsroman), который станет заметным жанром в англоязычной гей-литературе[41], но останется практически не реализованной повествовательной формой в русской словесности. В рамках «coming-out novel» проблема гомосексуальности рассматривается главным образом как социальная и педагогическая, упирающаяся в становление личности протагониста. Решение ее предлагается в приятии героем-гомосексуалом свой половой природы, выходе из сексуального подполья и выработке (или усвоении) им новой, более адекватной его эросу идентичности. Согласно этой логике, внутреннее освобождение гомосексуала – необходимый первый шаг к его социальной эмансипации. Розанов, положивший начало другой, противоположной литературной парадигме, подходит к гомосексуальности совершенно иначе – как к экзистенциальной коллизии, решения в принципе не имеющей. И хотя в «Последних листьях» (как и в «Опавших листьях» и «Людях лунного света») он заимствует некоторые кузминские темы и материал, в осмыслении «лунного света» между двумя авторами нет практически никаких пересечений. «Голубые» персонажи Розанова – «третий пол», духовные содомиты, просто содомиты, мужедевы и урнинги – исключены из установленного природой прокреативного цикла, и оттого они онтологически другие. Их маргинальность экзистенциональна, и попытки нормализовать «людей лунного света» Розанову видятся наивными и пустыми. Гетеро и гомо – для него фундаментальнейшая метафизическая дихотомия, непримиримое противостояние между солнцем и луной – вселенскими символами прокреативного и антипрокреативного начал[42].
Несмотря на все уважение, которым в русской гей-литературе пользуется Кузмин, именно розановское метафизическое понимание гомосексуальности оказало решающее философское и идеологическое влияние на большинство значимых русских литераторов, работавших с гомосексуальной тематикой. Берущие начало в интеллектуальной и научной традиции второй половины XIX века и читавшиеся полусекретно в советский период, труды Розанова по вопросам гомосексуальности были опубликованы в России массовыми тиражами в конце 1980-х и начале 1990-х годов. С тех пор они пользуются широкой известностью, и в России по сей день трудно найти претендующее на серьезность обсуждение гомосексуальности, которое не содержало бы розановских тропов и отзвуков его идей[43]. Более того, розановская традиция мышления о гомосексуальности слилась с другой, исключительно влиятельной частью его творческого наследия – новаторским жанром экзистенциального фрагмента, «опавших листьев», собственно «розановщины». Развитый в «Уединенном» и «Опавших листьях» (1912—1915), розановский тип фрагментарного письма резко расширил номенклатуру бытовых и физиологических деталей, допустимых в высокой литературе, раздробил романный сюжет и ввел протагониста-рассказчика, трудно отличимого от автора; «розановщина» оказалась эффективнейшим литературным инструментом для иррационального, несвязного, утонченного и одержимого сексом модернистского сознания[44].
При взгляде на произведения таких авторов, как Евгений Харитонов, Эдуард Лимонов, Александр Ильянен, Александр Маркин, трактующих тему гомосексуальности, поражаешься тому, в какой степени «розановщина» с ее фрагментарной, маргинальной, полуисповедальной поэтикой оказывается в их текстах связанной с розановским мышлением, подчеркивающим экзистенциальную маргинальность «людей лунного света» и их онтологическую чуждость[45]. По розановским следам в русской гей-литературе возник специальный фрагментарно-исповедальный прозаический жанр, в рамках которого отвергается нормализирущий педагогический подход западноевропейского «романа воспитания». Следует отметить, что авторы, работающие в жанре «розановщины» и в интеллектуальной традиции Розанова, нередко определяют себя и свое письмо через противостояние западному подходу к гей-тематике, оставляя социальные подходы к проблеме гомосексуальности – выражаясь фигурально – «англичанам»[46].
С философской точки зрения «Bildungsroman» и фрагмент представляют два противоположенных подхода к категории «становления», центральной для обоих жанров. В рамках «романа воспитания» становление рассматривается как целенаправленный процесс – Bildung, подразумевающий построение личности и судьбы и ведущий к гармоническому стазису. Гомосексуальный Bildung – выход из подполья (в англоязычной терминологии «coming out») достигает кульминации в тот момент, когда герой признает и принимает свое гомоэротическое желание, а также выстраивает идентичность, позволяющую ему открыто жить и действовать в соответствии с этим желанием. (Конечно, это лишь нарративная схема, и в конкретных сюжетах она реализуется по-разному, в том числе и негативно, когда неспособность героя к трансформации и действию оборачивается саморазрушением.) Важно, что в процессе становления здесь есть четкая цель, точка окончания пути, как, например, экфрасис в финальной фразе кузминских «Крыльев», когда, приняв, после мучительных сомнений, решение быть со Штрупом, Ваня Смуров «открыл окно на улицу, залитую ярким солнцем». Статичный живописный образ обозначает конец повествования.
Во фрагменте, наоборот, содержится память о себе как о «романтическом жанре par excellence»[47], и как таковой он «всегда находится в становлении и никогда не может быть завершен», согласно характеристике, данной романтической поэзии Фридрихом Шлегелем[48]. Сравнивая фрагмент с семенем, немецкие романтики видели в нем процесс нескончаемого порождения. Завершенность, присутствующая в Bildung, отсутствует в динамичном фрагменте. Фрагмент как вечное вызревание – это идея, характерная для романтизма, и отзвук ее слышится в знаменитом высказывании Розанова: «…все мои сочинения замешаны на семени человеческом»[49]. Однако прибавление определения «человеческое» к «семени» удаляет розановский фрагмент от романтической традиции, в которой эстетическая автономность, «полная изолированность от окружающего мира», как писал Фр. Шлегель, служила важным жанровым принципом для фрагмента («как еж», он должен быть заключен в себе самом)[50]. Розановское фрагментарное письмо, как представляется, менее озабочено своей художественной автономностью – слишком уж тесно оно привязано к гротескно материальному телу его автора.
Уходящий корнями в традицию Просвещения, «Bildungsroman» прослеживает поиск индивидуумом места в социуме, в общине, приводя его к статичному и гармоническому социальному бытию. Фрагмент же, наоборот, авторефлексивен. Как интонационно, так и с точки зрения философской генеалогии розановская речь – сбивчивая, противоречивая, нашептывающая – многое позаимствовала у подпольного человека Достоевского. В свете определяющего влияния Розанова и розановщины на русскую гей-литературу неудивительно обнаружить в этой литературе сугубо положительную оценку подпольного, маргинального, изолированного существования. За фрагментарной поэтикой русской «голубой» литературы и ее подземными коннотациями трудно не увидеть неоромантическое отрицание просветительского рационалистического импульса, вдохнувшего жизнь в главный троп западного гей-движения – «coming out of the closet». Ведь и пресловутый англоязычный «closet» (стенной шкаф), в котором прячется от белого света неэмансипированный еще гомосексуал, – лишь частный случай психологического и социального подполья, хорошо нам знакомого по антирационалистической традиции в русской словесности и философской мысли.
_________________________________
Англоязычная версия этой статьи вышла в сборнике: The Many Facets of Mikhail Kuzmin: A Miscellany / Ed. by Lada Panova with Sarah Pratt. Bloomington: Slavica, 2011.



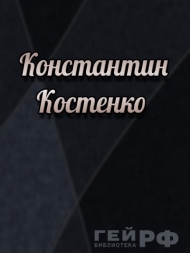

1 комментарий