Евгений Берштейн
Англичанин в русской бане
Евгений Берштейн
Англичанин в русской бане:
к построению исторической поэтики русской гей-литературы
Памяти Семена Аркадьевича Карлинского
Печатная история русской гей-литературы началась в 1906 году c появлением в символистском журнале «Весы» романа Михаила Кузмина «Крылья» – апологетического повествования о любви между мужчиной и юношей. От современников не укрылся радикализм «Крыльев»: одни отмечали его с восторгом, другие – с осуждением[1]. Среди русских модернистов бытовало мнение, что «социальное бесстрашие» Кузмина не имеет примеров и в Европе, и вполне возможно, что именно такой взгляд мотивировал беспрецедентное решение редактора «Весов» Валерия Брюсова посвятить весь ноябрьский номер журнала роману Кузмина[2]. Вызванный публикацией скандал принес Кузмину известность в качестве «русского Уайльда». И хотя самому писателю эта репутация была не по душе, в одном отношении со мнением современников следует согласиться: подобно Оскару Уайльду в Англии, в России Кузмин, действительно, стоял у истоков культурного движения в защиту и оправдание гомосексуальности.
В «Крыльях» рассказывается история Вани Смурова – подростка из буржуазно-интеллигентской семьи – и его дружбы с Ларионом Дмитриевичем Штрупом. О Штрупе известно, что он не то англичанин, не то полуангличанин, и во всяком случае – британский подданный; он изображен лидером кружка «голубых» петербургских эстетов. На домашних собраниях этого кружка Ване раскрывается программа эстетического преображения жизни, реализуемая новыми «эллинами» – членами кружка. Ваня уже смутно чувствует влюбленность в Штрупа, но из случайно подслушанного разговора узнает, что «англичанин» нанял в лакеи молодого банщика по имени Федор. Тот же разговор раскрывает Ване обыкновение парней-банщиков (и Федора в их числе) за плату «баловаться» со своими клиентами, и ему становится ясно, что Федор не просто слуга, а содержанец и любовник Штрупа. Томимый ревностью, Ваня вместе с тем озадачен и горько разочарован видимым противоречием между возвышенно-художественными теориями Штрупа и присутствием коммерческого секса в его повседневной практике. К тому же физическая, плотская сторона любви Ваню вообще пугает и отталкивает. Дальнейшие повороты сюжета, сопровождающиеся философскими диалогами, в итоге приведут Ваню к приятию его любви к Штрупу. Роман заканчивается в оптимистическом и даже экстатическом ключе: решив присоединиться к Штрупу для совместного путешествия по Италии и, как явствует из контекста, для жизни вдвоем, Ваня «открыл окно на улицу, залитую ярким солнцем»[3].
Программа эстетического преображения жизни, формулируемая Штрупом и его друзьями и постепенно усваиваемая Ваней, имеет три главные составляющие: во-первых, творимая новая жизнь зиждется на интенсификации чувственного опыта, во-вторых, это эллинская жизнь, подчиненная классическим образцам прекрасного, и в-третьих, она включает в себя классический же педерастический эрос, связующий мужчину и мальчика, учителя и ученика, мудрость и красоту. В салоне Штрупа Ваня слышит такое рассуждение, поясняющее вышеописанный идеал:
И когда вам скажут: «Противоестественно», – вы только посмотрите на сказавшего слепца и проходите мимо Люди ходят как слепые, как мертвые, когда они могли бы создать пламеннейшую жизнь, где все наслаждение было бы так обострено, будто вы только что родились и сейчас умрете Чудеса вокруг нас на каждом шагу: есть мускулы, связки в человеческом теле, которые невозможно без трепета видеть! И связывающие понятие о красоте с красотой женщин для мужчины являют только пошлую похоть, и дальше, дальше всего от истинной идеи красоты. Мы – эллины, любовники прекрасного, вакханты грядущей жизни[4].
Из дневника Кузмина узнаем, что эстетическая и эротическая философия, изложенная в «Крыльях», теснейшим образом соотносится с исканиями их автора. Так, в записи от 17 августа 1905 года он восклицает: «Как я хотел бы передать людям все, что меня восторгает, чтобы и они так же интенсивно, плотью, пили малейшую красоту и через это были бы счастливы, как никто не смеет мечтать быть». Запись продолжается:
Часто я думаю, что иметь друга, которого любил бы физически и способного ко всем новым путям в искусстве, эстета, товарища во вкусах, мечтах, восторгах, немножко ученика и поклонника, путешествовать бы по Италии вдвоем, смеясь, как дети, купаясь в красоте, ходить в концерты, кататься и любить его лицо, глаза, тело, голос, иметь его – вот было бы блаженство[5].
В этой записи чувственный эротизм характерным для Кузмина образом переплетается и смешивается с эстетизмом.
Кузмин воображает новое Возрождение, и «новый человек» (выражение из «Крыльев») есть также и «Renaissance-Mensch» (по-немецки, «человек Возрождения») – термин, используемый ближайшим другом Кузмина Георгием Чичериным в письме, написанном Кузмину в ноябре 1904 года, то есть в разгар работы над «Крыльями»[6] (заметим, что в своем письме Чичерин поясняет русское выражение «новый человек» немецким, тем самым уравнивая их). Понятие «новых людей» являлось ключевым в агитационно-утопическом романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?», и уже среди первых читателей «Крыльев» нашлись такие, кто полагал, «будто "Крылья” для нашего времени соответствуют роману "Что делать?”»[7]. Параллель между двумя текстами весьма значима. Xотя герои Кузмина, конечно же, не революционеры-социалисты, они и впрямь имеют нечто общее с персонажами Чернышевского: они тоже люди будущего, не только воплощающие свой идеал в жизнь, но и проповедующие его с целью созидания подобных себе новых людей. Так, в «Крыльях» и Штруп, и учитель греческого Даниил Иванович – член кружка Штрупа – просвещают Ваню посредством культуры классического мира и сократических диалогов.
Вслед за ведущими специалистами по творчеству Кузмина Джоном Малмстадом и Н.А. Богомоловым я полагаю, что в утопическом видении Кузмина физически реализованный эрос и прекрасное неразрывно связаны друг с другом (ср. формулировку «любовники прекрасного»). Вопрос о том, где именно надо искать источники этого видения, давно интересует исследователей. В своей фундаментальной биографии Кузмина Богомолов и Малмстад находят параллели к эротической эстетике Кузмина в философских трудах ранних немецких романтиков Иоганна Георга Гаманна и Вильгельма Хайнзе[8]. Эти параллели, в целом вполне убедительные, не дают, однако, ответа на вопрос о том, почему Кузмин сделал Лариона Дмитриевича Штрупа – героя, наиболее полно воплощающего принципы нового эллинизма и художественно преображенной жизни, – англичанином. Нижеследующий анализ начинается с обсуждения именно этого вопроса. Рассмотрение его, во-первых, поможет глубже понять некоторые структурные и идеологические черты «Крыльев», во-вторых, заставит нас по-новому взглянуть на место кузминского романа в истории русской литературы и, в-третьих, заставит задуматься о жанровой специфике русской гей-прозы.



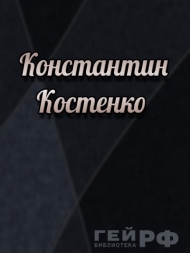

1 комментарий